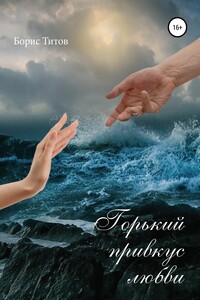Охота на тайменя | страница 11
— Значит, есть они тут, есть голубчики… Во дурило так дурило! Как же такого быка удержишь? Малым крючком да на тонком поводке. Я знал, что оборвет. Хоть повидали красавца — и то хорошо… Ну ладно, пускай погуляет. Мы его ночью возьмём, на «мыша». Всё одно не утерпит, хапнет. Вот тогда и потягаемся, кто кого.
Быстро темнеет в горной тайге. Когда принесли на табор улов, потрошили и подсаливали рыбу, пекли хариусов на углях и пили чай, пока переоснащали для ночного промысла Кешкины «санки» — вместо «мушек» навешивали «мышей» на крепких, надёжных поводках, — над утесами за рекой, над кедровыми дальними хребтами ещё горела заря, и в плёсе отражалась вечерняя задумчивая синь, подчёркнутая малиново-алой, точно хвост тайменя, полоской, а потом небо сразу угасло, утратило живые, изменчивые краски, его затянуло облаками, и наступила глухая, непроглядно-тёмная ночь, в которой только наш костерок мигал, подбрасывал искры, освещая поляну перед зимовьем.
— Это хорошо, что луны нету, — заметил всезнающий Кешка. — Чем темней, тем он смелей хватает. Может, нам сегодня и пофартит.
С вершин сопок распадками в долину Мензы скатился холодок. Посвежело в тайге. Стала отходить, отмякать перегретая дневным зноем земля. Безмолвной и сонной, словно безразличной ко всему, что есть и что придёт завтра, была чаща окрест, и в этой тишине казалось, будто окреп, набрал силы гул, рокот и плеск реки — одна она теперь властвовала в ночи и манила, притягивала к себе каким-то скрытым в ней вечным, неразгаданным таинством.
Кешка допил чай, опрокинул кружку на клеенку, постеленную вблизи огня, пружинисто встал, надел поверх рубахи пропахшую бензином, рекой и рыбой куртку-дерюгу в заплатах, подпоясался туго, разворошил валежиной и залил водой угли и головёшки от костра, взял под мышку «санки».
— Ну — пошли. Рыбака ноги кормят. Сиднем — кого поймаешь? — И лучом карманного фонарика высветил перед собой тропу, что сбегала со взгорка к реке.
На берегу он сказал:
— Ты давай, сразу вали' на низ, до второго плёса. Там кидай на перекате и за ним. А я отсюдова буду помалу к тебе спускаться. Под утесами надо пробуруздить хорошенько. Глядишь — и возьмется тот дурило. Потом дальше пойдем.
У меня тоже был фонарик — продолговатый, на две круглые батарейки, и за его лучом я, минуя кусты, коряжины, выворотни, валуны, быстро добрался бегом до второго — от устья речки — плёса, в котором днём поймал несколько ленков. Я остановился прямо напротив переката, погасил фонарик, сунул его в карман штормовки. И тотчас меня обволокла, стиснула такая темень, что и верно — хоть в глаз коли: шагу не сделать, ни влево, ни вправо ничего не видать. Лишь слабо, самую малость отсвечивала река, но противоположный левый берег совершенно терялся в густой черноте, и Менза казалась безмерно широкой, бездонной и грозной. Она шумела и погромыхивала на камнях, под утёсами и крутоярами, гулко бухала и тонко вызванивала. Эти звуки, голоса и подголоски сплетались в единую тугую вязь и заполняли собою ночь, всё подчиняли себе. Были только ночь и река — и больше ничего. Где-то там, за буграми, за лесом затерялось, ровно совсем исчезло, зимовьё. Канул в темноту, пропал Кешка. И на мгновенье мне представилось, будто я один заплутался в тайге — за хребтами, за долами, бог знает где от деревни, остался один на один с рекой, своенравной, непокорной и непознанной, которая хранила, лелеяла, оберегала от нас, людей, загадочных и древних рыб удивительной, неповторимой байкальской семьи.