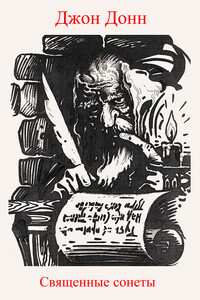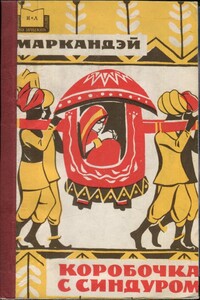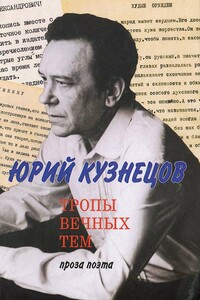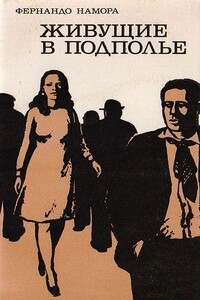По ком звонит колокол | страница 4
"Сегодня мы здоровы и крепки, а завтра — больны; сегодня счастливы, а завтра — поражены скорбью; сегодня богаты, а завтра — ввергнуты в нищету; сегодня прославлены, завтра — опозорены и отринуты; сегодня живы, а завтра — мертвы... О, что за перемена участи в течение двух лишь дней! От счастья — к горечи, от здоровья — к болести, от наслаждения — к скорби, от спокойствия — к тревогам, от силы — к слабости, — и точно так же от жизни перехожу я внезапно к смерти! Что за жалкое я создание!" [9]
Достаточно сравнить этот пассаж с началом "Обращений к Господу...", чтобы сходство бросилось в глаза.
Заметим и еще одну параллель. Все трактаты, посвященные "искусству умирания", настаивают на том, чтобы лежащий на смертном одре публично произнес символ веры: "Прежде, нежели покинут меня жена, дети и слуги мои, желаю я в их присутствии исповедовать мою веру, дабы и вы, друзья, что собрались здесь у одра моего, могли бы засвидетельствовать перед Богом и миром, что умираю я христианином," — пишет безымянный автор "Спасения человека недужного" — еще одного популярного в XVII в. сочинения этого жанра [10].
Каждый раздел "Обращений..." Донн заключает молитвой. Однако сочинение Донна далеко выходит за рамки трактатов ars moriendi. Те были лишь практическим наставлением для умирающего. Донн претендует на нечто гораздо большее. Едва ли не на тяжбу с Господом Богом. "Увещевания" — своего рода юридический разбор реального положения подзащитного, коим является сам Донн. Здесь он, с одной стороны, опирается на традицию права, с которой он познакомился во время обучения в Линкольнз-Инн, а с другой — на книгу Иова. Иова, вызывающего Бога на разбирательство: "Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне" [11]. И каждый раз, взвесив все доводы, Донн смиренно склоняет голову.
Если увещевания — наиболее богословски насыщенные части "Обращений к Господу..", то "Медитации", которым Донн обязан славой прекрасного прозаика, полны "мудрости мира сего". Здесь мы встречаемся с космографией и алхимией, платонизмом и герметикой. При этом Донн оперирует с набором "общих топосов" своей эпохи — но делает это поистине виртуозно. Магнетизм его текста объясняется не оригинальностью образов, а их неожиданным сопряжением [12]. Чужие голоса бл. Августин, Тертуллиан, Данте — причудливо преломляются в акустике донновского текста, порождая порой странное эхо.
Несколько ключевых метафор насквозь "прошивают" текст "Обращений к Господу". Одна из них — представление о человеке как микрокосме — малом подобии большого Универсума Зародившись в античности, это представление было воспринято Отцами Церкви, развито средневековыми философами, а потом, пройдя через призму герметических учений членов Флорентийской академии и школы Пара-цельса, трансформировалось, чтобы стать для литературы, искусства, философии и медицины той эпохи активной "порождающей метафорой", развертывающейся на всех уровнях бытия и связующей их воедино. "Человек, как был он сотворен и создан Господом, есть набросок или образ — или краткая повесть всей Истории Мироздания: в нем Господь заключил все творение, все, созданное Им в этом мире... И поскольку тело человеческое заключает в себе отражение всей Вселенной, и в нем соучаствует все, что есть в этом мире, то потому человек называется Микрокосмом или малым миром... Из глины и праха сотворена плоть человека, а потому тяжела и массивна; кости в его теле сравнимы со скалами и камнями, а потому крепки и долговечны... Кровь, что течет в теле его по венам, повторяющим своими очертаниями древесную крону, можно сравнить с водами, что разносятся по поверхности земли ручьями и реками, дыхание его подобно ветру..."