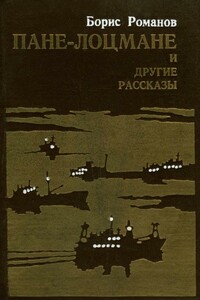Почта с восточного побережья | страница 52
Ближе совсем нынешнее воспоминание идет: держит внизу у дороги, зеленый, как Егор, человек отца за грудки, трое других Буланка в пристяжные в хвостатую колымагу запрягают, и Филька, дрожа, с всесильного Фокса ошейник рвет, никак карабин отстегнуть не может. Наконец — спустил. Фокс прыжком достиг было задачи, но зеленый оказался проворней: вскинул руку навстречу Фоксу — пах! пах! — и запрокинулась собака наземь. Будто из пальца выстрелил, штучка в руке блеснула маленькая, заметишь не сразу, не то что оружие у отца…
И вовсе непонятное, вроде ледохода на Ольхуше, закружилось. Никогда на Выселках взрослых женщин не было, а тут оказалось их сразу две, причем старшую из них отец назвал маткой. Какая же она Фильке матка, если молоком своим не кормит, под бок не укладывает, не греет, глядит на него со страхом, и откуда она так сразу взялась? В Наволоке или Небылицах матки так и порскают за ребятами, и курица над цыплятами квохчет, и теленок у Марты из-под брюха не вылезает, и у свиней тоже… Филька упорно разглядывал сваю матку и ничегошеньки в ней не находил, кроме понятной покорности отцу, дряблого старого тела да глаз такого цвета, будто а них на дне стояла, как в колодце, вода.
То ли дело было Полина! Она казалась похожей и на сестру, и на небылицкую девку, и на корову Марту, и на волчицу, которая приходила забавляться с Фоксом. Даже болела она, появившись на Выселках, понятно: лежала несколько дней молча, и слезы у нее в углах глаз наливались, как скучные мухи. Потом пряталась по углам некоторое время, а выздоровев, появилась как ни в чем не бывало, будто и не было ничего. Глядеть на нее не надоедало, она никогда не замирала целиком, то груди, то руки, то губы ее начинали жить сами по себе, и Филька думал, что она, наверное, умеет спать стоя, как Буланко, и ушами слушает раздельно, как Фокс. Вот бы ему такую матку! Поэтому, когда Полина стала уходить на ночлег в горницу к отцу, Филька обрадовался: значит, передумал отец насчет матки, понял тоже, что молодая лучше.
Однажды ночью обожгли Филькино лицо горючие капли, старая Енька беззвучно вздрагивала над ним, и Фильке показалось, что это уже было, было давно или могло быть… там, на краю памяти. Фильке стало так же неспокойно, как над перемазанной петушиной кровью колодой, но он не знал, что полагается в таких случаях делать, замычал и отодвинул Еньку от себя, на край печи, к ногам. И она смирилась, и всегда с тех пор укладывалась на ночь у него в ногах, и Филька иногда слышал, как она всхлипывает там.