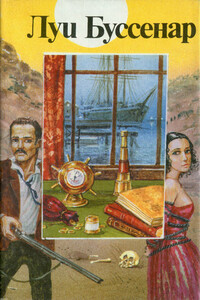В русской деревне | страница 16
Власти часто силой отбирали у молокан детей и помещали их в монастыри. Во время войны, по его слотам, многие из молокан отказывались по убеждению от военной службы. Два его сына были освобождены от военной службы во время войны; один был учителем, другой работал в госпитале. Но во всяком случае только после революции был опубликован совершенно определенный декрет по поводу отказа от военной службы по религиозным убеждениям; декрет освобождал от призыва тех, кто мог доказать, что он был антимилитаристом до войны.
Феврон повел меня к одному в высшей степени замечательному старику, по имени Родион. Он тоже был молоканином, и говорили, что ему было 105 лет. Он производил впечатление совершенно здорового человека; по крайней мере, его слух был в отличном состоянии. Он был одет в длинный белый кафтан и высокие сапоги. Жил он как патриарх большой семьи. Как и у Феврона, у него много всякого рода потомков, притом еще больше, чем у Феврона. Когда я вошел к нему, он сразу сказал мне: «вы, может быть, думаете, что вы чужой здесь. Но это неверно, ибо мы сыны одного отца». Он просил меня передать привет и любовь квакерам. «Мы все знаем здесь квакеров, — сказал он. — Квакеры всегда говорят правду. Они друзья России». Следует здесь прибавить, что в Волжском районе чрезвычайно смешаны и народности, и религии. В других деревнях, в особенности в Симбирской и Казанской губерниях, я встречал не только татар, башкир и мордву, но и чувашей и черемисов, принадлежащих к той же расе, что финляндцы на Севере и болгары на Юге. В самом же Озере, насколько я помню, я встретил только одного человека, принадлежащего к чужой расе. Это был киргиз из азиатских степей. Как мне сказали, он был «лошадиным пастухом». Его нанимали сторожить большие табуны лошадей, которых выгоняли в поле, и он неделями жил с ними — один, вдали от людей. При взгляде на него казалось, что он прирос к седлу. Он был низенького роста и скорее ковылял, чем ходил; черты лица были у него в такой степени монгольские, что более типичного монгола я не видал. Цвет лица у него был такой же темный, как у краснокожего индейца. Лицо его всегда было покрыто мелкими капельками нота, и при взгляде на него казалось, что он очень не любит умываться. Но замечательнее всего было, то, что мой друг Емельянов не чувствовал никакой расовой антипатии против него. Я помню, как он и киргиз сидели на корточках спиной к стене на маленьком крыльце, на котором я обычно спал, выкуривая одну папироску за другой и разговаривая друг с другом, как равный с равным.