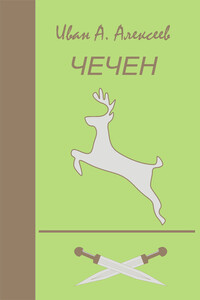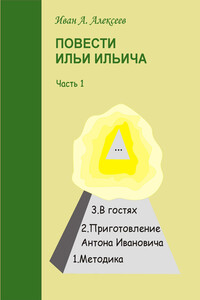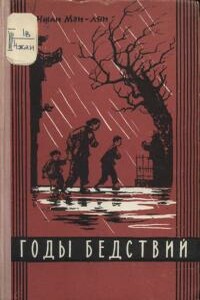Херувим четырёхликий | страница 63
Текст назывался «Беседа в кафе «У Бирона», причём название кафе начиналось с маленькой буквы, а имя файла — «Встреча у Бирона» — больше подходило названию рассказа, что было ясно сразу, без втягивания в многозначительные авторские рассуждения.
Прошло три года, как Вадим Дивин ничего не писал, в очередной раз разочаровавшись в публике. До этого он добросовестно оттрубил пятилетку в «Самиздате», добившись писательской лёгкости переложения мыслей в слова и окружив себя обычным для не фантаста, не эротомана и не мастера острых сюжетов кругом поклонников — тысяча Интернет-читателей и десяток заказчиков готовых книг. Чужие произведения он читал редко, поскольку себя оценивал строго, а других ещё строже. Оценка его учитывала наличие идеи, приёма и красоты её исполнения, художественных достоинств, возможности самому представить героев и сопутствующих их переживаниям картин природы и окружающей обстановки — всего того, что составляло в его представлении мастерство сочинителя. А по отношению к редким классным текстам, где все обязательные элементы мастерства присутствовали и согласно били по сознанию читателя, вызывая ответные созвучные переживания, важно было сообразить — зачем это писано, куда зовёт, поднимает человека к свету или опускает его на тёмное дно?
Рассказ, который прочитал Дивин, был написан многомудрым человеком, любителем литературы и сочинителем-дилетантом. Автор в художественной форме попытался представить результаты собственного расследования вероятных тем приватной беседы русского императора и главного русского поэта, о которую издавна точили зубы и политики, и учёные, и падкие до ласк литераторы — все, кому не лень. Оживить сухие истины должна была беседа, но с кем? — Правильно, с самим Пушкиным, специально оживающем в наше время, чтобы подтвердить выводы современных дознавателей. Приём не новый и вроде бы выигрышный, но только на первый взгляд. Грань между сказкой и небывальщиной слишком тонка даже для искусного мастера — что ж говорить о любителе? У автора «Беседы» пройти по ней не получилось, но он так старательно кружил рядышком, нагружая читателя полезной, похожей на правдивую и дотоле неизвестной — точнее, не сведённой к предлагаемому общему знаменателю — информацией, что к концу чтива появилась досада за то, что авторская задумка не удалась.
Вадим понял переживания Канцева. Если пытаться достичь главной цели «Беседы» — представить в ёмкой и доступной форме коллективно раскрытую многозначную и многосмысловую информацию, помогающую разумному человеку встать на путь правды-истины, — рассказ надо было переписывать. Однако, брать такой труд на себя Дивин не собирался. Он давно знал, насколько тяжело править глубокий текст. Там не словесный восторженный понос. Там обдуманные и уложенные по своим местам слова, заплетённые между собой не хуже синоптических связей головного мозга. Распутать и положить их по-новому, ничего не потеряв из смыслов, было практически не возможно.