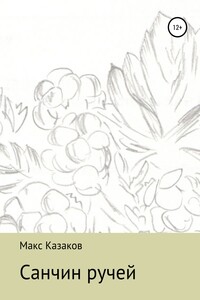Необъективность | страница 84
Луч вдруг исчез, и стало тише, темнее. Нужно что-нибудь делать, и, чтоб не думать потом об отъезде, я иду собирать свой рюкзак. Но сначала нужно выхлопать его на балконе и набрать в него зимнюю свежесть. Балконные двери примёрзли, под дверным полотном визжит снег, и вот я, в одной футболке, почти задохнувшись, стою на морозе. Действительно, стало смеркаться, город, как в размышление, погружается в дымку. Вдали, за пригорком завод, и оттуда доносится звук ссыпавшихся на руднике вагонеток. Плотно набитый автобус едет уже с освещённым салоном. Я вхожу в комнату и, даже закрыв за собой дверь, ещё ощущаю на теле, обжегший его сильный холод. Отложив то, что нужно стирать, я медленно собираю в рюкзак и пакую в нём вещи. В комнате стало уж слишком темно, и я включаю настольную лампу, и от того всё вокруг просыпается, глядит на меня, тихо шепчет о прошлом. Я сижу на диване и силюсь понять, что во мне изменилось. Я почти засыпаю, так меня и застают, они возвращаются с разницей в пять-семь минут — отец, мать и даже брат — пришёл от друзей, когда их родители тоже вернулись с работы. Сначала с отцом мы также просто сидим, отдыхая, а за окном очень быстро темнеет, нас становится больше, вот уже четверо, и пятый — кот на полу, мы сидим и молчим. Мать, войдя, зажгла люстру, теперь лишь эта комната освещена, вся остальная квартира темна и пустует. Я поднимаю глаза, и так, в тёмно-коричневой полировке серванта, напротив, в стеклах его, полускрывших посуду — в её отражении, я вижу всю эту сцену — четверо в ряд, а над нами глухое стекло, и по краям от него, подобные жёлтым колоннам две шторы.
Мы все молчим, или, вернее, я просто не слышу их будничных слов, зато отчётливо чувствую всё, что меня окружает. За эти годы у них многое поменялось — проблемы и сослуживцы, и они уже не посвящают меня — я для них почти гость, но я прислушался, и, хотя мне это кажется малым, не важным, мне просто приятно их слушать. Я был рассеян и не уловил тот момент, когда разговор перешёл на поступок соседа. Да, это висело над нами всё время, и, как оказалось, день открыл и другие детали. мать от тех же соседок узнала, что вчера дядя Коля снял с книжки свои сбережения, все, но немного — их было, всего только триста. Он одел свой лучший костюм и, прямо так — без пальто, ходил по городу, а к вечеру в гастрономе напротив купил себе водки. С женой он поссорился, они часто ругались в последнее время, но в тот день он не разговаривал с нею. Не обращая внимания на все её разговоры, он, молча всё выпив, уснул за столом. Утром — снова сходил в магазин и, опять выпив, ушёл, но не одел даже ботинки. Заметив это, она за ним побежала. В современных домах это не заведено, но у нас подвалы домов дощатыми перегородками разделены на клетушки — для всякого хлама, их называли двояко — сарайки и стайки — по аналогии с тем, что они заменяют. Так вот, она, спускаясь за ним по подъезду, услышала, как он открыл дверь в подвал, она — туда, в своей стайке он молча прикручивал петлю. Она не поверила и начала насмехаться. Он был полупьян, сталистая проволока не поддавалась, и он глубоко разодрал себе руку. Потом он встал на верстак и сунул голову в петлю. Тут уж она испугалась и начала уговаривать, дёргать за ноги, он молчаливо пинался. Поняв, что ей одной с ним не сладить, она побежала искать мужиков, однако, нашла только Клаву. Пришли, задели его, он очнулся и засмеялся…. Я по-прежнему видел, как мы отражаемся в полировке — нас и бордовый диван — островок среди тёмного моря, но это только для глаз, внутренне я был не здесь, далеко, и был даже уже не собой — пустотою. Все, молча, слушали мать, словно, как и она говорить, мы не могли это не слушать. Что-то за день изменилось, и, чем бы то ни было, с этим придётся мириться. Даже, если б я смог понять — что темно и беззвучно приплыло тогда, вряд ли что-либо смог бы исправить.