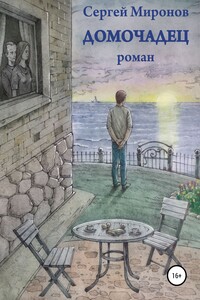Необъективность | страница 83
— Как же могло это быть, сколько же всё продолжалось? — Вопрос, разумеется, глупый, но нужно за что-то цепляться.
— Не знаю, наверное, долго. — Глаза у неё потемнели. И я отступаю — что там было внутри, действительно, знать невозможно. Брат, упрямо берясь за еду, говорит, и хорошо, что говорит.
— Взяла бы кусачки или напильником бы перепилила. — Так начинается освобожденье, и мать, ухватившись за эту возможность, ему отвечает.
— Проволока была очень толстой, и он ведь не подпускал. — Я надеюсь уже, что разговор этим исчерпан, я тоже сажусь, но подаёт голос отец.
— А я-то думал — почему его нет на работе. Сменщик бегает, ищет. — Дело в том, что он, будучи пенсионером, всё же работал вахтёром и, видно, сегодня была его смена. Я ещё две минуты сижу, что-то беру на столе и опять режу хлеб, и жалею отца — значит, его это тоже коснулось. но надо есть, перерыв так не долог — я пододвигаю тарелку к нему, он опускает глаза и копает там вилкой. Я вижу — он даже не думает есть, но мать это уже обмануло — она тихо вздыхает и принимается за еду — хорошо, нужно жить дальше. Потом, торопясь, мы пьём чай. Отец включает приёмник, я открыл форточку — пусть и с улицы тоже доносится шум, чтобы рассеять то, что накопилось. Всё почти как обычно — светло, и отец читает газету, но брат молчалив, и, вообще, всё как-то слишком спокойно. Так проходит ещё десять минут, и изменить что-нибудь невозможно, но вот родители возле порога, вот за ними захлопнулась дверь, и слышны их шаги среди лестниц. Мы с братом остались вдвоём, он учит уроки, и я рад, что он занят. Я верю, что напряжение всё же пройдёт, ведь уже понемногу проходит….
В квартире опять я и кот, брат позвонил и ушёл, и в первый раз тишина этих комнат пугает. Я ещё даже не знаю, что тишина эта уже, в самом деле, другая. Делать что-либо я не хочу и просто хожу от одного окна до другого. Несколько раз я смотрю на термометр за окном, но что на нём — не запоминаю. Окно также в морозных узорах, однако, день во второй половине, и эти узоры теперь слишком серы, лишь иногда проблеснёт неимоверная плотная краска. До обеда всё развивалось снаружи, а теперь нужно справиться с тем, что внутри. Нет и трёх, отец возвратится к шести, и эти часы впереди напоминают мне омут. Комнаты кажутся мне чрезмерно большими. Я сажусь на диван и смотрю на золотистые стрелки настенных часов, на чёрный фон циферблата. И эти часы, хозяин времени здесь, медленно, но выручают меня — словно им всё равно и они могут вернуть мне минуты, забытые в прошлом. Вдруг, будто не было нескольких лет, я оказался в том времени, где всё ещё было логичным. Часы, как магнитофон, стоящий под ними — когда-то я, приезжая сюда, слушал те песни, чего больше не будет — тогда я тоже смотрел на циферблат. Тихо урчит холодильник на кухне, где-то спит кот, всё вокруг спит, ожидая хозяев, и дыхание этого сна вновь заливает всё зыбким покоем. Прошло полчаса, моё дыхание всё ещё сжато, но я уже оживаю. «Земля была безвидна, безвидна и пуста». — Это снова внизу у Андрея. — «Снег. Кружится, летает и тает…». — Из-за его ретро-песен, я вообще мало слышал. То, что было сегодня — теперь оно стало и прошлым. Я вновь иду ставить кофе, беру сигарету — пусть же и это будет как раньше — я хочу ухватиться, хочу и становлюсь собой прежним. Солнце вышло на эту сторону здания и почти растопило ледок на окне, я сижу за столом и курю — дым сигареты, делая незаметно почти весь свой путь, врывается в, также пока что невидимый, луч, освещается и наполняет его мутно-белым движеньем, клубится, и, в перетекающих струйках, я вижу далёкие ветви. И снова то странное чувство — всё изменилось, уже другой странный год — и я хочу обернуться, но не могу, время и память уходят, и у меня остаётся лишь тяжесть.