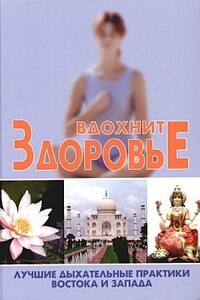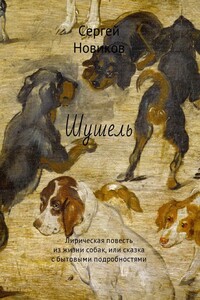Соседи | страница 59
Я тоже на неё злился. Точнее, не так. Меня от неё тошнило. Понимая практическую бесперспективность переговоров, я мстительно произнёс:
— Хорошо, насчёт телевизора я понял. Вы меня обманули. Ещё вопрос. Давайте я наклею на дверь скотчем какие-нибудь плакаты или просто белую бумагу.
Хозяйка с тем же тошнотворным выражением кротости на лице посмотрела на лоджию, где курил хозяин и промолчала. Я повторил предложение ещё раз, но ответа не дождался. Вместо этого Клавдия Олеговна пробормотала «что ж за мука-то такая, господи», после чего истерически постучала в закрытую балконную дверь — там курил Степан Макарович. Тот быстро вышел с балкона, и неприветливо взглянул на меня, а на хозяйку уставился вопросительно.
— Он дверь испортить хочет, — сказала старушка. — Бумагу собирается на стекло клеить.
Хозяин молча вышел из кухни. Отсутствовал минуты три. Вернулся и, глядя куда-то в пол, сказал:
— Нам завтра в поликлинику с утра. Тебе в семь выходить. И сейчас тоже идти пора.
Через неделю я вполне привык к жизни за стеклом. Ощущения походили на чудесный, с дзенским оттенком, знаменитый диалог про суслика: «Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть». Только в моём случае рассказ про ощущения звучал бы немного иначе. «Видишь хозяев? — Вижу. Но их нет».
В Северной Америке тем временем стартовал Кубок мира по хоккею. Трансляции начинались в три ночи. Во время одной из них за моей спиной (я смотрел телевизор лёжа на животе, почти прижимаясь лицом к экрану — чтоб слышать максимально приглушённый звук) дверь в комнату неожиданно распахнулась. Пищевод похолодел от страха, но, по счастью, мышцы среагировали на опасность самостоятельно, и с кровати я вскочил весьма резво. В меня неприятно ткнулся голый локоть, я отпрянул, и тут в темноте раздался ровный скрипучий голос:
— Надо выключать уже, мы по ночам телевизор не смотрим.
Степан Макарович попытался обойти меня и выключить телевизор. Я заорал шёпотом:
— Чёрт возьми, да что вам мешает? Звука почти нет! Дверь в вашу комнату закрыта, значит, и света нет!
— По ночам спать надо. Ложись давай, я выключаю.
Взбешённый, я несколько раз медленно выдохнул и сказал:
— Нет.
Минуту старичок стоял, без всякого выражения шаря глазами по моей груди. Потом в три приёма, приставляя одну ногу к другой, развернулся и, скользя на полусогнутых (плохие суставы) ногах по полу, двинулся к двери.
Странно, но утром они меня не выгнали. Они просто перестали общаться со мной. Раньше на кухне хозяйка чуть ли не каждый вечер после тяжёлых, продолжительных и многозначительных вздохов заговаривала со мной на тему «вот опять они (правительство, дума, Лужков, террористы) придумали… как жить-то дальше будем?»; да и хозяин иногда принимал жалкий в его исполнении тон тёртого жизнью москвича, поучающего юного провинциала (от меня при таком общении требовалось натянуть лицо посмущённее и вставлять в паузах почтительное «да… и не говорите… да уж…»). Теперь эти разговоры прекратились, и всё общение сводилось к конвоированию меня за дверь и пропуску в помещение. Сказать, что прекращение глубокомысленных бесед со старичками меня сильно огорчило, я, пожалуй, не могу. Отсутствие эмоционального контакта весьма облегчало (по крайней мере, мне) наше диковинное сосуществование.