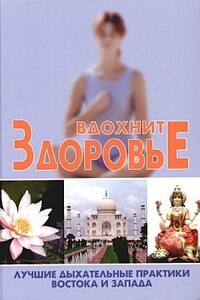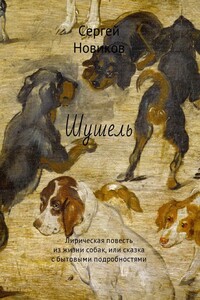Соседи | страница 34
Этой дешёвой, худосочной рыбой с треугольной головой и неумно выпученными глазами при социализме кормили пушных и всяких прочих зверей. Почему-то именно путассу после августовского дефолта 1998 года город стал потреблять в каких-то, не побоюсь этого слова, лошадиных дозах. Всего за один кризисный месяц я нажил на путассу автоматическую стиральную машину, большую деревянную кровать с двусторонним ортопедическим матрасом и импортный телевизор марки «Philips».
Искренне (и практически бескорыстно) я любил тушки кальмаров. Ах, как они были недороги в 97-м! О больших квотах на вылов (что определяет цену), об исключительной полезности и замечательном вкусе кальмара я рассказывал руководству магазинов. Руководство сопереживало и рассказывало мне про народ, который в недорогом кальмаре своим крестьянским нутром чует какой-то подвох, и потому брать отказывается. Теперь квоты сократили, кальмар вздорожал, а народ кусает локти, но кальмара, что характерно, берёт.
Красный и толстый исландский окунь тоже был вкусен, но, в отличие от кальмара, дорог. Российский окунь был подешевле, но зато вид имел довольно бледный (в смысле, россиянин натурально был не красным, а едва-едва розовым). Брать российского окуня разборчивые магазинные директрисы не хотели из-за бледности, красного исландского не покупали из-за цены. «Нам бы такого красного, но по цене белого», — привередничали торговки. Удовлетворить запросы дам помогли пакетики малинового «Юппи» (это, кто не помнит, такой растворимый напиток из 90-х). Я купал бледного окуня-россиянина в насыщенном растворе «Юппи» и замораживал. Выходило нарядно. Директрисы после дегустации скупали покрасневшего российского окуня на корню и долго рассказывали товаркам об изысканном («такой, знаете, крабами отдает»), чуть сладковатом вкусе.
Еще спервоначалу уважал воспетую Аверченко навагу без головы (ту самую, всего с одной косточкой, треугольной), но как-то в марте нам прислали шесть вагонов наваги. Вагоны были без холодильников, на улице было плюс шесть, и навагу мы выгружали лопатами. Навага пахла. С тех пор между нами все кончено.
Через год рыботорговли я заматерел и стал любить дорогих и холёных рыб. По пятницам обычно прогуливался домой с блестящей двухметровой семгой, не то брал да и приглашал в гости упитанную севрюгу весом с хорошего поросенка. Иногда, для разнообразия, позволял себе увлечься большой, жирной самкой палтуса.
После такой диеты я вдруг поумнел еще больше; то есть настолько, что стал писать заметки в газету, а рыботорговлю бросил. И единственное, что отравляет мне жизнь, так это тот факт, что теперь за рыбу, которая раньше отдавалась мне вроде как по любви, с меня требуют деньги. А я, после всего, что у меня с рыбой было, платить за неё не могу.