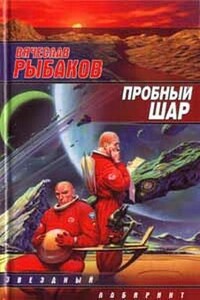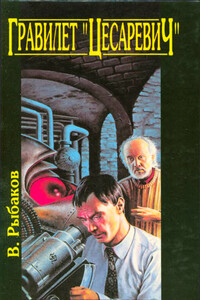Резьба по Идеалу | страница 98
Для того чтобы стать достойным стражем, сифогрантом или хотя бы маститым старцем, человек должен был быть с детства вырван с корнем, с кровью из реально существующей культурной традиции и погружён в новую, радикально отличную, созданную искусственно; но этой новой традиции не существовало нигде, и попытаться создать её на руинах старой могли лишь те люди, которые сами-то были плоть от плоти этой старой традиции и культуры, просто против неё восстали. Первое поколение таких управленцев могло быть и впрямь мотивировано исключительно собственным восстанием; их преемники неизбежно повисали бы в эмоциональной пустоте.
Ставить судьбу будущего в зависимость от успешной переделки природы человека — значит, самому лишать себя будущего.
Европейские утопии — это классические приглашения перемахнуть пропасть в два прыжка.
В значительной степени именно в силу данного противоречия всякая попытка реализовать такую утопию требовала прямого насилия, вырождалась в прямое насилие и затем неизбежно приобретала характер по меньшей мере драматический. А в итоге приводила, как правило, к результату, противоположному мечте.
И второе.
Внутренний мир управленца, его духовный посыл, его творческая энергия, его личные, индивидуальные этические ориентиры совершенно выпадали из рассмотрения утопистов. Возможно, потому, что ко времени создания самих утопий бюрократия в Европе пребывала в зачаточном состоянии, и конструкторам идеальных обществ казалось, что для выполнения распоряжений вышестоящих нижестоящим достаточно лишь получить эти самые распоряжения, а дальше всё решится само собой. Психология управленца не то что не волновала конструкторов идеальных миров; для них и проблемы-то такой не существовало. Чиновник, его эталонный тип, его переживания и его рутинная работа ни в малейшей степени не были встроены в общую этическую картину положительной социальной перспективы. Управленцу ни в малейшей мере не был предложен его положительный, заманчивый, призывный образ.
Усложнение системы государственного управления и развитие бюрократии на заре Нового времени свалились на Европу, как снег на голову. В её этической картине мира не было места для кадрового управленца. Идеалисты предшествующих веков не озаботились тем, чтобы предложить управленцу какие-то его собственные, специальные «плохо» и «хорошо». Чиновнику не показали ни манящих его грёз, ни его отвратительных образин. И лишь пробуждение национализма, по времени совпавшее со складыванием первых бюрократий мало-мальски современного типа, частично скомпенсировало этот пробел, кое-как заполнило этот вакуум: штатные бюрократы получили возможность ощутить себя пусть хоть и бледными, но всё же подобиями таких блистательных enfants de la Patrie, как, скажем, гусары. Возможно, это совпадение по времени не случайно; если бы усложняющиеся государственные образования не принялись апеллировать к народным чувствам, не стали бы провозглашать себя прибежищами и детищами живущих в них наций, бюрократу и управленцу, не предложи ему роль патриота, в его новом количестве и качестве просто не для чего оказалось бы работать.