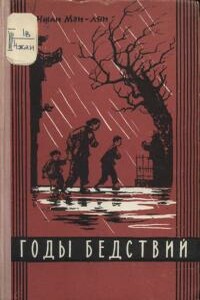Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия | страница 87
Мы видим, что смирение – это слово, которое может иметь различны оттенки. Можно, конечно, представить себе склоненную голову, но, если вдуматься в само слово «смирение», оно звучит буквально так: с миром. «Стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи», – говорил преподобный Серафим Саровский. Отстраненность – это ведь тоже внутренний мир, не так ли? В нашем (и Балсекара) понимании смирение (попробуем отойти от привычных толкований этого понятия – в них на самом деле присутствует душок самоуничижения) близко к отстранённости. Хотя есть и различие между ними. Достаточно легко быть отстраненным, пока тебя по-настоящему не заденут какие-то жизненные факторы. Но когда задевают, – и ведь еще как задевают, – мы вовлекаемся. И здесь перед нами два пути: или бороться, или смириться. В этом и только этом смысле мы толкуем смирение.
К примеру, известный церковный писатель Игнатий Брянчанинов, который считается крупнейшим духовным авторитетом для православных, написал в своё время статью о крепостном праве. Игнатий берет Свод Законов Империи, а потом положения из этого свода «обосновывает» с православной точки зрения. Вот некоторые цитаты: «Духовные, наипаче же священники приходские, имеют обязанность предостерегать прихожан своих противу ложных и вредных разглашений, утверждать в благонравии и повиновении господам своим, всемерно стараться предупреждать возмущения крестьян и их от того удерживать». «Все помещикам принадлежащие крестьяне и дворовые люди должны спокойно пребывать в их звании, быть послушными помещикам своим в оброках, работах и всякого рода крестьянских повинностях и исполнять в точности обязанности законами на них возложенные». [36, 2, с. 55—56] У нас воззвание канонизированного церковью епископа Игнатия отчего-то оставляет неприятное чувство. И ведь это воззвание было написано за два года до отмены крепостного права! Такое смирение едва ли может быть приемлемо. Может быть, потому, что святитель Игнатий смиряется не лично в отношении себя, а оптом, от лица множества рабов. Хотя разве эта разница принципиальна? Наступает определённый предел, когда совпадение множества неосознанных случайностей вызывает взрыв. Это относится и к субъектам исторического процесса и к отдельным индивидуумам. И восставшие крестьяне Емельяна Пугачёва вешают дворянских младенцев на глазах у их насилуемых матерей, пенсионер достаёт своё старое охотничье ружьё и маньяк берётся за молоток. Их систематически задевают и они вовлекаются. Можно ли их винить в этом?