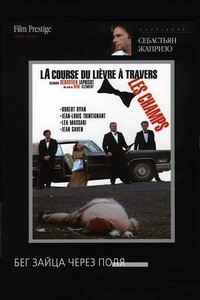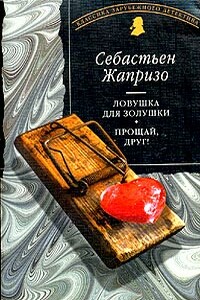Лики любви и ненависти | страница 23
— Ты счастлив? Счастлив, ну скажи!
Он целовал ее, смеялся вместе с ней. Это нельзя было назвать счастьем, это было нечто безымянное. Не из этого времени, не из этого мира, но это были она и он, и снова, опять она и он.
Нужно было что–то делать. Но что? Что сделать, чтобы помочь? Может быть, так сильно об этом думать, чтобы оно обязательно случилось, так сильно в это верить, чтобы однажды оно стало настоящим и живым.
Внезапно он испугался, слегка отстранился, протянул руку, коснулся ее живота.
Но оно не могло еще быть там. Его нельзя было почувствовать.
И они жили в этом ожидании.
Поль хотел уехать из Араша, когда это случится, отправиться в Париж, чтобы она могла попасть в лучшую клинику, чтобы ее наблюдали лучшие врачи. Все следующие месяцы он без конца думал о ребенке, который появится. Наверняка мальчик.
Симона заразилась его возбуждением, разделяла его мечты. Иногда она уже жалела об их покое для них двоих, уже упрекала, что он забыл ее ради другого. Какую комнату они ему отведут? Как назовут? Как только в голову ему приходила мысль, следовал взрыв радости, за ним долгое молчание, а потом полное отчаяние.
— Нет, нет, не годится. Всех на свете зовут Филиппами. А Патрис звучит претенциозно.
Он нанял бонну по имени Бернадетта, дочку местного фермера, которая с наступлением темноты уходила домой.
Он запрещал Симоне заниматься любой работой, слишком долго ходить, слишком рано вставать. Он нашел новую форму тирании.
— Бедняжка, — говорила она. — Но ведь у нас будет девочка!
— Тогда назовем ее Виржини.
Девочка, мальчик. По большому счету, ему было все равно. Скоро появится живое существо, его существо, которое будет его воплощением, будет ходить, смеяться, зажигать спички, нежное чудо на земле, нежное чудо, посланное людьми и Богом.
А в утро их отъезда, туманное и молчаливое ноябрьское утро, слова, которые они произносили, запирая шале, звучали почти как молитва.
— Как знать, вернемся ли мы? — сказала Симона.
Он обнял ее за плечи, пока шофер такси, которое они вызвали, относил чемоданы в машину.
— Мы вернемся втроем.
— Мне страшно.
— Пойдем, — сказал он. — Мы не бросим наш дом.
— А вдруг мы никогда не вернемся? Вдруг у нас будут другие планы?
— Это будет недолго, — сказал он. — Скоро мы вернемся, и все будет так, мы оставили.
— Мне страшно, — повторила она.
Когда машина отъехала, она прижалась лбом к стеклу, а он, сидя рядом с ней, на мгновенье забыл, почему они уезжают, и почувствовал, что у него сжалось сердце и что все в нем протестует против этого. Их опустевшее шале все уменьшалось на фоне удаляющегося горного склона и стало таким крошечным, что они даже не заметили, как оно исчезло.