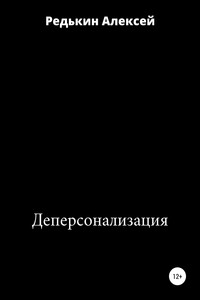И нет рабам рая | страница 59
Хава и Семен прыскали, подтрунивали над ним, но он на их насмешки и внимания не обращал.
Вместо того, чтобы бахвалиться, лучше бы, балбесы, поучились у нее. Чему? Работать, терпеть лишения, плакать. Они никогда не видели, как лошадь плачет, а он видел.
И не единожды.
Первый раз, когда померла дочь — малолетняя Хана, царство ей небесное!
Гнедая стояла у каменной ограды кладбища, и крупные чистые слезы текли у нее из глаз на суглинок, и там, где они упали, через год взошли желто-голубые цветы.
На моче взошли, отрубил Семен. На ее моче.
Нет, на ее слезах, уверял Ешуа.
Не успели они похоронить Хану, как пропал жеребенок.
Забрел, дурачок, в болото и утонул.
Каждый день, ни свет, ни заря — только оставь ее без присмотра, только не привяжи — убегала гнедая к трясине и до вечера, а порой всю ночь напролет, кружила вокруг хлюпающей, булькающей, квакающей топи, неистово била копытом, ржала взахлеб, и от этих ударов и этого ржания дрожали лес и небо.
Не потому ли сейчас, чувствуя ее близость за сырыми отечными стенами острога, Ешуа не терял самообладания, старался поддержать чадный огонек надежды, то угасающий, то вспыхивающий с новой силой.
Всю ночь до самого утра он не смыкал глаз: привалится к стене, забудется на минутку и тут же подскочит, бросится к оконцу и, напуганный собственным сердцебиением, частым, болезненно гулким, вопьется взглядом в знакомый, изломанный бликами луны, бесплотный контур лошади.
Под утро от напряжения и усталости у него начало двоиться в глазах, и теперь он уже видел не одну свою гнедую, а целый табун, который мелькал, передвигался, словно парил в воздухе над пустынным тюремным двором.
Стоя на цыпочках и пытаясь в призрачном, парившем в лунном сиянии табуне высмотреть свою лошадь, единственную и неповторимую, Ешуа услышал, как щелкнул железный засов и в камеру (скорее в загородку для свиней или в заброшенный хлев) вошел заспанный стражник в поношенной длиннополой шинели, перепоясанный ремнем и в фуражке, едва державшейся на его непомерно большой, плоской, как жернов, голове.
— Эй, ты, — окликнул он Ешуа, приблизился к нему и, не дожидаясь, пока тот обернется, поставил на земляной пол не то миску, не то кружку, прикрытую сверху заскорузлой краюхой хлеба.
Ешуа обернулся.
— Я же говорил: мне вашу пищу нельзя… — сказал он беззлобно.
— Нельзя, нельзя, — передразнил его стражник. — Нет бога выше желудка. Ешь! Я тебе тепехь кошехную кухочку пхинес… с хисом… суп с гхенками… пихох с кухицей, — глумился он, коверкая щепетильную для евреев букву «эр». — Лопай! А то еще до суда загнешься! Ну, чего ты все время в окно пялишься? Синагоги все равно не видать.