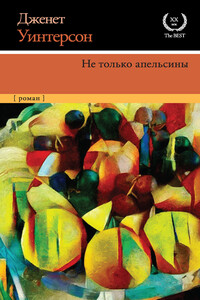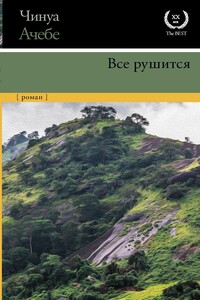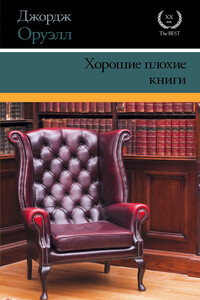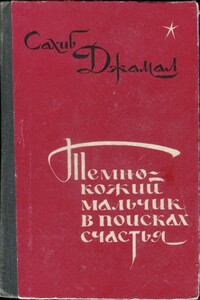Комната Джованни. Если Бийл-стрит могла бы заговорить | страница 124
На меня никто не смотрел. Меня будто не было. Я присутствовала, но речь будто шла не обо мне. Будто не я, а Фонни был здесь, и мой ребенок, пробуждаясь от долгого, долгого сна, начинал ворочаться, слышать и быть – быть где-то у меня под сердцем.
Папа разлил коньяк, и мама дала всем по рюмке. Она взглянула сначала на Джозефа, потом на Эрнестину, потом на меня – мне она улыбнулась.
– Это наша присяга, – сказала она. – Нет, я не сошла с ума. Мы пьем за нового пришельца. У Тиш и Фонни родится ребенок. – Она тронула Джозефа. – Пей, – сказала она.
Папа пригубил рюмку, глядя на меня. Никто как будто не смел заговорить первым, до него. Я глядела на папу. Я не знала, что он скажет. Джозеф поставил рюмку на стол. Потом снова взял ее. Он пытался сказать что-то, хотел сказать, но не мог. И посмотрел на меня, точно силясь узнать что-то, силясь прочесть это на моем лице. Странная улыбка бродила у его лица – где-то близко, но не на само́м лице, казалось, он путешествует во времени – туда и обратно. Он сказал:
– Ничего себе новость.
Потом опять отхлебнул из рюмки и сказал:
– А ты не хочешь выпить за своего малыша, Тиш?
Я сделала маленький глоток и поперхнулась, и Эрнестина похлопала меня по спине. Потом обняла меня. На щеках у нее были слезы. Она улыбнулась мне, но ничего не сказала.
– И давно это? – спросил папа.
– Около трех месяцев, – сказала мама.
– Да. И по моим расчетам так, – сказала Эрнестина, удивив меня.
– Три месяца! – сказал папа, точно пять месяцев или два месяца изменили бы дело, и все стало бы понятнее.
– С марта, – сказала я. Фонни арестовали в марте.
– Пока вы бегали вдвоем и искали себе жилье, чтобы можно было пожениться, – сказал папа. Его глаза были полны вопросов, такие вопросы он мог бы задать своему сыну – по крайней мере, черный, мне кажется, мог бы, но расспрашивать дочь было нельзя. Меня вдруг взяла злость, что я не сын, но это тут же прошло. Отцы и сыновья – это одно. Отцы и дочери – совсем другое.
Не надо слишком глубоко вникать в тайну. Она совсем непроста и совсем небезопасна. Мы не так уж много знаем о себе. По-моему, лучше знать, что ты не знаешь, и тогда будешь расти вместе с этой тайной по мере того, как эта тайна растет в тебе. Но в наше время все всё знают, вот почему столько людей, особенно белых, чувствуют себя такими потерянными.
И я подумала: а как Фрэнк отнесется к тому, что его сын Фонни скоро станет отцом? Потом поняла, что первая мысль, которая появится у всех: но ведь Фонни в тюрьме! Так подумает Фрэнк, это будет его первая мысль: «Если что-нибудь случится, мой сын никогда не увидит своего ребенка». И Джозеф сейчас подумал: «Если что-нибудь случится, у ребенка моей дочки не будет отца». Да. Вот такая мысль, никем не высказанная, захолаживала воздух у нас на кухне. И я чувствовала, что мне надо что-то сказать. Но я слишком устала. Я прислонилась головой к плечу Эрнестины. Сказать мне было нечего.