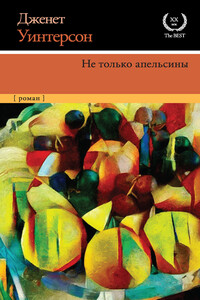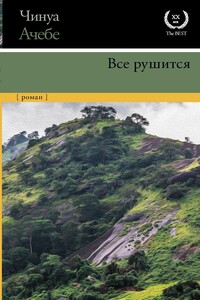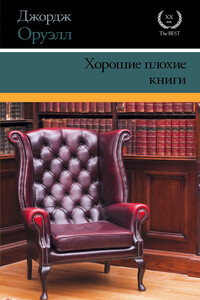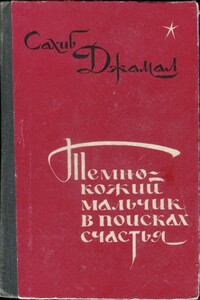Комната Джованни. Если Бийл-стрит могла бы заговорить | страница 123
Какое это чудо – осознавать, что тебя кто-то любит.
– Тиш…
Эрнестина с сигаретой в руке.
– Что?
– Во сколько у тебя встреча с адвокатом в понедельник?
– После шести. После Фонни. Буду у него около семи часов. Он сказал, что все равно задержится в конторе.
– Если опять заговорит о деньгах, скажешь ему, чтобы позвонил мне. Слышишь?
– Какой смысл? Раз ему мало, значит, мало.
– Ты делай, как тебе сестра велит, – сказал папа.
– С тобой, – сказала Эрнестина, – он не так будет разговаривать, как со мной. Усекла?
– Да, – сказала я, наконец. – Усекла. – Но что-то в ее голосе – не могу объяснить почему – до смерти меня испугало. И я снова, как весь этот день, была один на один со своей бедой. Никто не сможет мне помочь, даже Сестрица. То, что она твердо решила помочь, – это я знала. Но я вдруг почувствовала, что ей тоже страшно, хотя тон у нее был спокойный, уверенный. Я поняла, что, работая с подростками, она много узнала про такие дела. Мне хотелось спросить ее, как они своего добиваются. Мне хотелось спросить, добиваются ли вообще.
Когда никого, кроме нас самих, нет в доме, мы едим на кухне – пожалуй, самой главной комнате у нас в доме, комнате, где случается все, что случается, где все берет свое начало, все формируется и подходит к концу. И вот, когда мы поужинали в тот вечер, мама подошла к буфету и вернулась к нам с бутылкой – с бутылкой очень-очень старого французского коньяка, которая хранилась у нее уже много лет. Эти бутылки она держала еще с тех пор, как была певицей и жила со своим ударником. Бутылка была последняя. Она поставила ее на стол перед Джозефом, и она сказала:
– Откупорь.
Потом принесла четыре рюмки и выждала, когда Джозеф откупорит бутылку. Джозеф и Эрнестина смотрели на маму, похоже не догадываясь, что она задумала. Но я знала – что, и сердце у меня екнуло.
Папа откупорил бутылку. Мама сказала:
– Джо, ты хозяин в доме. Разлей по рюмкам.
Странно бывает иной раз: когда вот-вот что-то должно случиться, ты уже чуешь, как все это будет. Да нет! Ты знаешь наверняка. У тебя просто не было времени это осознать, а сейчас и вовсе не успеешь. Папа так изменился в лице, что я описать не могу. Черты лица у него стали четкие, будто высеченные из камня, каждая линия, каждая складка вдруг сделалась чеканной, а глаза черными-черными. Он ждал – неподготовленный, беспомощный, – ждал того, что сейчас облечется в слова, станет действительностью, родится на свет божий.
Сестрица сидела, глядя на маму глазами очень спокойными и прищуренными, и чуть улыбалась.