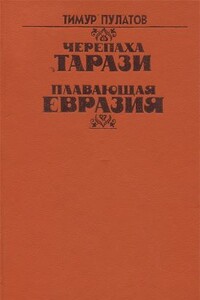Жизнеописание строптивого бухарца | страница 78
— Спите, сегодняшний день не в счет, — сказал дед. — Все начнется завтра с утра! — А сам ушел в соседнюю комнату, где лежал в люльке тетин младенец, который глянул на Душана, потянулся было к нему всем телом, но, видно, утомившись, сразу заплакал.
Слышно было всю ночь, как разговаривают в этой комнате тетя и дед, вначале тихо, думая, что мальчики еще не заснули, затем почему–то громко, и Душан улыбнулся, услышав любимое деда: «В наше время никто и слова такого не знал — алимент!» На сей раз он, должно быть, сердился, потому что слово это, диковинное и нечеловеческое, раз о нем никто не слышал, произнес он издеваясь и зло смеясь.
— Не нужно нам это, прошу тебя, умоляю, — сказал он потом тете. — Проживем благородно, фу, гадко все это, противно! Не нужны эти копейки, так — в бегах по конторам да адвокатам — взятые! А адвокат–то паршивый — в такой позе, будто ворочает делами кожевенной фабрики или другого наследства. А всего–то, самое большее, что может и чего не может, — алимент! Черт, не хочу! Умру!
— Зачем же вы пили? К чему? — робко сказала тетя и замолчала.
— Для смелости — на адвоката, — ответил дед и как–то тихо и незлобно рассмеялся, и, услышав этот смех среди ночных шорохов сада, свиста светлячков и стука перезревших плодов, которые больше всего почему–то падают после полуночи, Душан уснул наконец.
А когда проснулся — вчерашнего пережитого и услышанного будто и не было вовсе, потому что сад он не сумел разглядеть в полумраке, а разговор тети с дедом не дослушал. Все было сначала, как после испорченной игры или после ссоры, когда решают жить по–новому. Вот и сад открылся, и Амон уже бегал босиком по траве, тетя готовила им молочный завтрак, а дед ушел, чтобы позвонить с почты домой в город и сказать, что приехали они благополучно.
Душан сел на порог и смотрел на брата, прыгающего за абрикосами, лицо и руки Амона были красные от сока, а ноги зеленые, и сам он, красно–зеленый человечек, весь какой–то восторженно–сумасшедший.
Душану, невыспавшемуся, было плохо, знобило, и будь он спокойный, как обычно, отдохнувший, наверняка не поддался бы настроению брата, а сейчас будто загнали его в Амона. С криком он понесся в сад, и братья вместе бегали между деревьями в радостном волнении, катались по траве и листьям, и сок раздавленных плодов брызгал им в лицо.
Как будто Амон, так много думавший о том часе, когда соберутся мальчики в заросли в гости к женщине, живущей в орешине, сам вселился в беса, а Душан в брата, а потом, возбужденный, забежал в комнату, вспомнив о гнезде стрижа, повешенном на потолке, как перевернутая глиняная чашка. Мальчик схватил шапку деда и стал кидать вверх — стриж удивленно выглянул, спрятался, затем опять высунул голову, испуганно вспорхнул и полетел над кроватью и зеркалом, над столом, где стояла ваза. Душан все бросал шапку, желая прогнать стрижа в сад, на волю, но стриж, видно, не понимал его намерений, все летал по комнате.