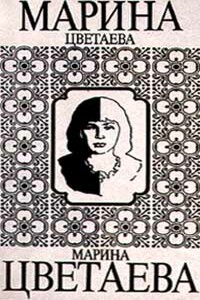Мастера русского стихотворного перевода. Том 1 | страница 48
С. Маршак, относившийся почти к тому же поколению, что Лозинский, принадлежал, однако, к иной поэтической школе. Если говорить о выборе оригиналов, то Маршак — переводчик лирический: он не выходил за пределы собственных поэтических пристрастий, — это стихи Блейка (Маршак переводил их в течение полустолетия), песни и эпиграммы Бернса, народные баллады, детские стихи Киплинга, Кэррола и Родари, сонеты Шекспира, афористическая лирика Дмитрия Гулиа. Те вещи, которые отличались от маршаковской системы, под его пером претерпевали известное преображение: они подвергались высветлению, упрощению, «афоризации» — так Маршак перерабатывал шекспировские сонеты, изгоняя из них многосмысленность и загадочную темноту. И все же Маршак, отбирая лишь то, что соответствовало его собственному рационально-лирическому дарованию, стремился к максимальной объективной верности подлиннику, к тому, что сам он называл «портретным сходством» с ним. «Чем глубже и пристальнее вникает художник в сущность изображаемого, — писал С. Маршак в 1957 году, — тем свободнее его мастерство, тем точнее изображение. Точность получается не в результате слепого, механического воспроизведения оригинала. Поэтическая точность дается только смелому воображению, основанному на глубоком и пристрастном знании предмета»[74].
Наряду с Лозинским и Маршаком третьей крупнейшей фигурой в советском искусстве поэтического перевода является Б. Пастернак. Лирический поэт большой индивидуальной силы и резко выраженного своеобразия, он был в то же время профессионалом поэтического перевода: за два десятилетия им воссозданы многие трагедии Шекспира, «Фауст» Гете (обе части), многочисленные стихи французских, немецких, английских, испанских, венгерских, грузинских поэтов — классических и современных. В отличие от Лозинского, он не придавал особого значения сохранению внешней формы подлинника; в отличие от Маршака, не проявлял особой тщательности в отборе. Но в переводе Пастернака самая далекая от нынешнего читателя вещь, принадлежащая не столько текущей литературе, сколько культурному наследию, приобретала современное звучание. Байрон и Ганс Сакс, Гервег и Бараташвили, Шелли и Шекспир начинали говорить образным языком нашего столетия. Конечно, при этом нарушалась историко-литературная перспектива, сдвигались хронологические рамки, искажался национальный колорит. Все это вело к таким значительным утратам, что некоторые критики, близкие к школе Брюсова — Лозинского, вообще отказывались причислять переводы Пастернака к переводам, считая их формой бытия оригинальной поэзии Пастернака.