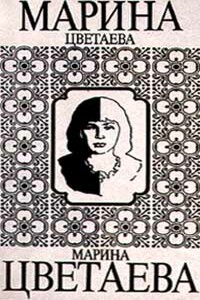Мастера русского стихотворного перевода. Том 1 | страница 47
Брюсов и Блок — оба они стоят у истоков того переводческого искусства, которое составило славу советской литературы. При этом в творчестве Брюсова преобладает начало просветительское, профессиональное, в поэзии Блока — лирическое: все, что Блок переводил, могло быть написано им самим; ему почти не приходилось перевоплощаться, чтобы воссоздать гейневское «Тихая ночь, на улицах дрема…» или «Отрывок» Байрона:
Линия Брюсова была продолжена и углублена в творчестве М. Л. Лозинского, который, унаследовав от Брюсова его профессионализм, его научно-художественный подход к переводу, не до конца преодолел свойственное Брюсову противоречие: порой у Лозинского детали тоже брали верх над целым. Однако это не слабость, не недостаток, а принципиальная установка: еще слишком велико отвращение к безудержному своеволию, страх перед губительной «бальмонтовщиной»; казалось, только соблюдением строжайшей формальной дисциплины ее можно преодолеть. Впрочем, Лозинский, следуя завету Брюсова, менял метод перевода в зависимости от характера подлинника: он бывал академически точен, переводя «Божественную комедию» Данте, или трагедии Шекспира, или корнелевского «Сида», в философских стихах Леконта де Лиля чувствовал себя свободнее, а в комедиях Лопе де Веги или Тирсо де Молины давал простор творческому воображению. Именно в этих вещах он одерживал свои наивысшие победы — особенно в блистательных переводах из Леконта де Лиля (над ними Лозинский работал в течение двадцати лет, с 1919 года). А. Блок, читавший самые ранние из них, записал в 1920 году в дневнике: «Глыбы стихов высочайшей пробы»