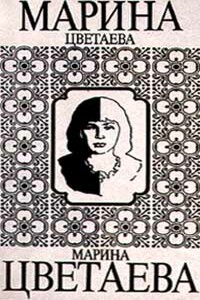Мастера русского стихотворного перевода. Том 1 | страница 49
В своих заметках о переводах Шекспира Пастернак так формулировал взгляд на сущность переводческого творчества: «Дословная точность и соответствие формы не обеспечивают переводу истинной близости. Как сходство изображения и изображаемого, так и сходство перевода с подлинником достигается живостью и естественностью языка. Наравне с оригинальными писателями, переводчик должен избегать словаря, не свойственного ему в обиходе, и литературного притворства, заключающегося в стилизации. Подобно оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а не словесности»[75]. Здесь дана целая эстетическая программа, которой Пастернак неизменно придерживался: задача переводчика не в том, чтобы создавать историческую дистанцию между читателем и классической литературой, а в том, чтобы воскрешать в классике свойственную ей жизнь, чтобы она говорила с читателем с непосредственностью окружающей его реальности, а значит — на сегодняшнем обиходном языке. В этой программе содержится невысказанная полемика с историзмом Брюсова — Лозинского и всей их переводческой школы. Поэтому и может Пастернак в переводе 73-го сонета Шекспира не обинуясь сказать совсем уже по-современному:
Чтобы оценить особенности поэтической речи Пастернака, достаточно сравнить эти строки с соответствующими из перевода Маршака:
Маршак передавал индивидуальную образность шекспировской лирики, тесня традиционные элементы и все же сохраняя их для стилистического фона («купол неба»), Пастернак же идет гораздо дальше, — настолько далеко, что 73-й сонет совсем удаляется от Шекспира и вплотную приближается к Пастернаку, утрачивая даже и следы той стилистической системы, которая задана оригиналом. В отличие от Пастернака, Маршак ограничивает индивидуальную образность законами, продиктованными ему оригиналом.
Сам Пастернак иногда разъяснял свою позицию и тогда бывал весьма определенен. В одном из писем он, например, писал: «Я совершенно отрицаю современные переводческие воззрения. Работы Лозинского, Радловой, Маршака и Чуковского далеки мне и кажутся искусственными, неглубокими и бездушными. Я стою на точке зрения прошлого столетия, когда в переводе видели задачу литературную, по высоте понимания не оставляющую места увлечениям языковедческим…» (письмо А. О. Наумовой от 23 мая 1942 г.). В этих бутадах Пастернак неправ: его собратья, названные в письме, вовсе не предавались увлечениям языковедческим — менее всего это можно сказать про Чуковского и Маршака. Да кроме того, между названными четырьмя поэтами-переводчиками общего мало — в каком же смысле их объединяет Пастернак? Видимо, только в том, что, в той или иной степени, каждый из них стремился к воссозданию подлинника как определенной поэтической системы, принадлежащей к конкретному историческому периоду. Пастернак же, переводя, преодолевает историю: воссоздаваемый им автор становится нашим современником.