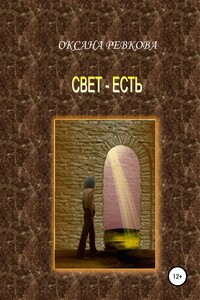Мастера русского стихотворного перевода. Том 1 | страница 34
Мицкевич довел до предела романтические черты, заложенные в «Гюзла»; Пушкин постарался начисто их устранить и пробиться к реальному народному творчеству западных славян, просвечивавшему сквозь тексты Мериме. Пушкина в 1828–1834 годах «местный колорит» французских романтиков интересовал меньше всего. Его привлекали не «нравы», не экзотика, не декорации романтической «оперы», но историческое своеобразие минувших эпох, национальные особенности разных народов, иначе — строй сознания людей разных времен и наций. Пушкина в неизмеримо большей степени, чем его предшественников (Востокова или Катенина), занимали вопросы не только просодии, не только стиля, но и воссоздания национальных и исторических характеров, требующих в каждом отдельном случае лишь одного, строго определенного стихового и, шире, стилистического решения.
До Пушкина содержание и форма поэзии были в большей или меньшей степени разъединены, между ними образовывался некий зазор, приводивший к известной автономности элементов внешней формы, — прежде всего это относится к метру, ритму, лексическому строю стихов. Только в реалистическом творчестве Пушкина все без исключения внутренние и внешние элементы произведения оказались сведенными в систему, управляемую всевластными закономерностями. Смысл, стиль, звук — эти три компонента поэтического слова в поэзии Пушкина образовали нерасторжимое единство. Способность к перевоплощению, «протеизм», всемирная отзывчивость Пушкина — результат реалистической концепции искусства слова, ведущей к гармонии содержания и всех элементов внутренней и внешней формы.
Первая треть XIX века в России — золотая пора и поэзии в целом, и поэтического перевода. За этот недолгий для истории срок — от рождения до смерти Пушкина — переводческое искусство, только подготовленное творчеством драматургов, одо- и баснописцев прошлого столетия, прошло путь огромный и невиданно стремительный. Оно уже имело таких мастеров, как Жуковский и Батюшков, Баратынский и Иван Козлов, Крылов и Востоков, оно обогатилось стихами Мерзлякова и В. Туманского, Э. Губера — первооткрывателя «Фауста» — и Дельвига, Кюхельбекера и Тютчева, Шевырева, Раича, Катенина и Дмитриева… Оно достигло высокой реалистической зрелости в поэзии Пушкина. Благодаря усилиям многочисленных переводчиков-поэтов в русскую литературу вошли как полноправные ее участники Гомер, Анакреон, Гораций, Тибулл, Вольтер, Парни, Корнель, Андре Шенье, Байрон, Саути, Вальтер Скотт, Томас Мур, Шиллер, Гете, Уланд, Тассо, Ариосто; русская поэзия начала знакомиться с фольклором других народов — благодаря Востокову, Катенину и, конечно, Пушкину. Это была пора радостных открытий множества неведомых дотоле поэтических миров — правда, пока еще только в пределах Европы. Профессионалов-переводчиков в те годы не было; были поэты, которые писали стихи — свои или переводные. У одних собственное творчество преобладало над переводческим, другие больше переводили, чем писали сами, — как Жуковский, И. Козлов, Востоков, Раич, — но каждый из них мог сказать словами Жуковского: «У меня почти все чужое, и все, однако, мое». Последними в этой блестящей плеяде были три поэта, которые внесли немало в историю русского романтического перевода, — Лермонтов, Полежаев, Тютчев. На этом