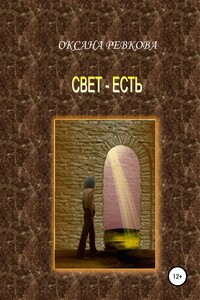Мастера русского стихотворного перевода. Том 1 | страница 35
Начиная с 40-х годов русская поэзия переживала серьезный кризис. Герцен считал, что ее вытеснила проза около 1842 года: «Кольцов и Лермонтов, — писал он, — вступили в литературу и скончались почти в одно и то же время. После них русская поэзия онемела»[47].
Онемела — это, пожалуй, сказано слишком сильно. Факт, однако, таков: поэзия напряженно (и часто безуспешно) искала новых путей — ей нужно было размежеваться с великой прозой этих десятилетий, очень полно выражавшей интересы общества. Одним из вновь обретенных путей было творчество Некрасова, другим — творчество Фета.
Поэтический перевод не стоял на месте — русская литература продолжала обогащаться за счет других национально-поэтических культур. Переводчики развивали дело Пушкина — они пытались завоевать для русского языка и стиха всё новые области. Особенностью наступившей эпохи было то, что перевод все больше отделялся от оригинального творчества, все больше превращался в самостоятельную профессию. Характерны фигуры Струговщикова, Ф. Берга, Костомарова, Мина — и они, и многочисленные их собратья были профессионалами-переводчиками. Пушкин, поставивший в центр внимания национально-исторические особенности переводимого автора, открыл дорогу к переводческой профессии, — в этом смысле названные стихотворцы шли в направлении, предуказанном Пушкиным. Но они не обладали ни достаточным талантом, ни отчетливым сознанием своих художественных задач. Некоторые из них сочли необходимым опровергнуть субъективного, своевольного Жуковского и создать более верное, более отвечающее реальности, чем лирическому чувству, отражение поэзии Гете и Шиллера. Со стороны и Струговщикова и Ф. Миллера это оказалось попыткой с негодными средствами; у каждого из них были удачи, но Жуковского им преодолеть не удалось.
Пушкин тоже спорил с Жуковским: в переводах он, Пушкин, отступал на второй план, предоставляя слово автору, — как поэтическая личность Пушкин был достаточно велик, чтобы найти в себе и Вольтера, и Парни, и Шенье, и Анакреона. У его эпигонов, пытавшихся опровергнуть Жуковского, личность переводчика тоже не доминировала — но лишь потому, что ее у них не было совсем. Струговщиков после Жуковского переводил Шиллера и Уланда, но уже Дружинин беспощадно обличил убогость его стихов. Ф. Миллер, видимо, вполне серьезно полагал, что в читательском сознании перевод Жуковского будет заменен его «Царем лесов»: