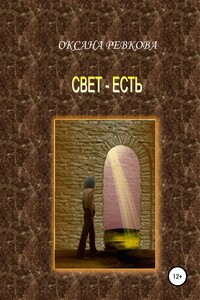Мастера русского стихотворного перевода. Том 1 | страница 33
Одной из самых ярких и, во всяком случае, самых обширных работ Пушкина в области поэтического перевода можно считать те одиннадцать «Песен западных славян», которые переведены из книги Проспера Мериме «Гюзла» (1827).
Мицкевич перевел одно из стихотворений сборника Мериме — «Морлак в Венеции» (1827–1828). Сравнение этого перевода Мицкевича с пушкинскими «Песнями» (особенно со стихотворением «Влах в Венеции») наглядно показывает различия между подходом к своей задаче обоих поэтов — польского и русского. Мицкевич оснастил свой перевод звучными рифмами и, сохранив текстуальную близость к подлиннику, преобразовал повествовательный монолог Мериме в традиционную романтическую балладу. Вот как звучит у Мицкевича последняя строфа стихотворения (в довольно близком русском переводе):
(Перевод М. Живова)
Та же заключительная строфа в пушкинском переводе:
У Мицкевича, как можно судить даже по переводу на русский, фольклорность потонула в романтической форме, важнейшая черта которой — строфа-шестистишие одиннадцатисложника, сообщившая стихотворению изысканно-книжный характер. Мицкевич, видимо, сделал это сознательно. Пушкинская концепция была и проще и последовательнее: в его переводе «Влах в Венеции» можно, вероятно, прочитать следы споров, которые вспыхивали между Пушкиным и Мицкевичем по поводу «иллирийских стихотворений» Мериме; Пушкин ничуть не собирался украшать безыскусственные «песни полудикого племени». Преодолевая стилистическую нейтральность текста-«посредника», то есть текста Мериме, он постарался увидеть за ним воображаемый простонародный оригинал. Тщательно реконструируемый Пушкиным, этот «оригинал» отличается от текста Мериме отчетливо фольклорным характером. Просторечность выражается прежде всего в лексике. Весьма последовательно отобраны Пушкиным и разговорно-просторечные синтаксические конструкции, не имеющие аналогий во французском тексте. Разница между переводами Мицкевича и Пушкина не внешняя, а сущностная, — это разница между творческими методами. Верный романтическим принципам, Мицкевич возводит свой перевод к субъективно понятому идеалу романтической баллады. Как Батюшков и Жуковский, как Шиллер и Шамиссо, романтик Мицкевич не осознает культурно-исторической осмысленности внешних элементов поэтической формы; она, эта форма, должна лишь отвечать субъективному вкусу и намерениям поэта в данный момент, отвлеченной идее гармонии и красоты. Пушкин смотрит на форму, и даже на сугубо внешние ее черты, иначе: для него форма насквозь пронизана содержательностью, в ней нет и не может быть ничего нейтрального, заменимого, она, собственно, и есть содержание, ибо голое смысловое содержание, лишенное единственно соответствующей ему формы, для Пушкина оказывается — как это ни парадоксально — пустым, опустошенным, то есть в конечном счете неполноценным «содержанием».