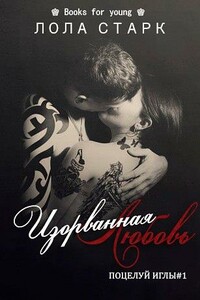Мажарин | страница 39
Целовал.
Марина улыбнулась. Обвила рукой его плечи. Чуть надавила пальцами на гладкую щеку,
поворачивая к себе лицо. Приникла к его рту открытыми
губами, и они замерли, еще не целуясь. А только жарко дыша друг другом — проникаясь
взаимным желанием, заражаясь общим сумасшествием.
Кайф, говорит… Еще не разделись, а уже трясло не проходящей дрожью. Ломало. И если
просто представить на секунду, что случится нечто
невообразимое и им кто-то или что-то помешает… Ей-богу, лучше сдохнуть.
Мало поцелуев. Кожа нужна. Тело голое. Вся она. Вся Маришка.
Опустил на пол. Наплевав на пуговицы, стащил с нее кофточку через голову. Подтолкнув к
кровати, прижался со спины. Скользнул руками по
плечам, по груди, вниз. Расстегнул джинсы и чуть спустил их с бедер. Надавил ладонью на
горячий живот. Медленно двинулся по бархатной коже,
на мгновение замер пальцами у края трусиков.
И еще медленнее вниз…
— Моя Мариша… — хриплым шепотом. Взрывая россыпь мурашек по спине. Кажется,
только от его голоса, от того, как он произносит ее имя, еще
немного и она кончит. — Моя красивая, горячая девочка... — Поцеловал в шею. Лизнул,
оставляя влажную дорожку от ключицы до уха.
И снова дрожь по ее спине. Приоткрытые губы, сухо утыкающиеся в щеку.
Марина плотно прикрыла веки и зажмурилась, прикусив нижнюю губу. Прильнув к
Мажарину, тяжело задышала.
Вторая рука крепко сжимала ее плечи, будто не позволяя вырваться. А она и не собиралась.
Хорошо, что держал — ног не чувствовала, словно
проваливалась. Ничего не чувствовала, кроме его пальцев, касающихся горячей влажности.
Ничего. Только бы он не останавливался.
Сергей сжал зубы от желания, сворачивающегося в паху тугой пружиной,
представляя, как войдет в нее и что почувствует. Она тугая и
напряженная. Это будет глубоко и сильно. И им обоим будет хорошо. Очень хорошо.
Твою ж мать. Как хотелось этого кайфа. С ней по-другому не назовешь. Удовольствие, оно
спокойное. А они с Маринкой всегда с ума сходили. У
них всё бешено. Ненормально. Необъяснимо. Быстро. Пугающе. Но никак по-другому. Даже
если начинали ласкаться спокойно, все равно потом
всё летело к чертям. Каждое прикосновение — как по нервам; каждый поцелуй — с дрожью;
каждый толчок в нее — с лихорадочным стоном.
Уже знал ее всю. Изучил. Понимал. Читал по звукам, по шепоту, по дрожащим губам, по
яростно выгнутому телу. И следующий стон был стоном
протеста, смешанного с легким разочарованием, когда убрал руку. Но всего лишь для того,
чтобы уложить на кровать и содрать с нее джинсы. Снял