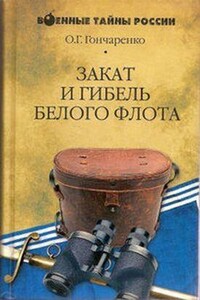Система проверки военнослужащих Красной Армии, вернувшихся из плена и окружения. 1941–1945 гг. | страница 129
Органам государственной безопасности в годы войны безусловно требовалось проявлять внимание к пленным — в этом и состоит задача контрразведки, имеются примеры выявления среди них реальных преступников. При этом явно отсутствовала польза от постоянной разработки, бесконечных допросов и случайных арестов бывших военнопленных, поскольку в склонности к измене Родине они ничем не отличались от других военнослужащих. С точки зрения контрразведки крайне мало пользы было и от создания спецлагерей. В теории в них профессиональные чекисты должны были в спокойной обстановке разбираться в самых запутанных случаях, но на деле темпы и формы фильтрации зависели от трудового использования проверяемых.
При проверке в спецлагерях не использовались уникальные техники, недоступные чекистам в воинских частях. Как и на фронте, работа с подозреваемыми зависела в значительной степени от случайных обстоятельств. Общие указания отсутствовали, и каждое дело разбиралось отдельно на основе расследования[1023], сводившегося к допросу и проверке при помощи агентурной разработки и отправки запросов на подтверждение сообщенных данных. В целом неохотно вспоминая о содержании своей деятельности в годы войны, ветераны спецслужб предпочитают вовсе не упоминать работу с бывшими военнопленными. Несмотря на обилие институтов, фильтрация проходила бессистемно, выборочно и случайно, и в силу этих обстоятельств не может быть названа эффективной.
По своим последствиям для бывших пленных с организацией системы проверки сопоставима идеологизация властью темы плена в предвоенные годы и в начале войны, предполагавшая их дискриминацию и остракизм. Однако отрицание самого наличия советских пленных на внешней арене сочеталось с несколькими признающими их существование (и уже этим нормализующих статус пленных) линиями внутренней пропаганды. Критика условий нацистского плена давала значительные политические выгоды, а нехватка людей на фронте при направлении туда большого количества бывших пленных делала их стигматизацию вредной для боевого духа всей действующей армии. При противоречии линий пропаганды друг другу до последнего дня войны», когда угрозы массового пленения красноармейцев уже не существовало, продолжал тиражироваться лозунг «воин Красной армии в плен не сдается».