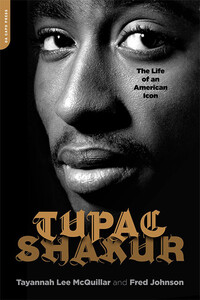Словесность и дух музыки. Беседы с Э. А. Макаевым | страница 7
Мы много говорили о живописи, о творчестве разных художников — от Чимабуэ, Дуччо и других великих итальянцев до наших современников. Мне казалось, что я хорошо представляю вкусы Э. А. В первые годы нашего общения, до того, как мне стали доступны великие европейские собрания, главным источником моих художественных впечатлений были отечественные музеи и альбомы по искусству. Рубенс с его пышнотелыми дамами вызывал у меня довольно скептическое отношение. И вдруг в Вене, в одном из лучших европейских музеев, я увидел знаменитую «Шубку», которую хорошо помнил по описанию в двухтомной истории мирового искусства, где особое внимание знаменитый искусствовед уделял контрасту нежной кожи обнаженной модели с мехом накинутой на ее плечи шубки. Это как–то не очень вдохновляло меня в то время. Я тогда был балетным фанатиком, поэтому рубенсовские формы оставляли меня равнодушным. И вдруг, стоя перед этой картиной в венском музее, я ощутил невероятное очарование и притягательность взгляда этой молодой женщины, от которого совершенно невозможно было оторваться и который заставлял забыть о целлюлитных коленках и прочих живописных изысках. Рассказывая Э. А. о своих австрийских впечатлениях, я среди прочего заявил: «Энвер Ахмедович, вы сейчас перестанете меня уважать, но я влюбился в «Шубку» Рубенса». В ответ прозвучало: «Витя, что вы такое говорите? Рубенс — это один из самых великих гениев в истории живописи!». Я еще много раз вспоминал эту фразу перед «Похищением дочерей Левкиппа» в Старой пинакотеке Мюнхена, перед огромными алтарными композициями в соборе Богоматери Антверпена, в Кельне, в Банкетном зале и Национальной галерее Лондона, в галерее Медичи в Лувре и, наконец, заново оценив эрмитажные полотна.
Способность переживать эстетические восторги сочеталась у Э. А. с типичной для настоящего ученого привычкой к критическому анализу, которую не могла остановить магия великих имен и репутаций. Читая новую книгу, Э. А. на последней внутренней стороне обложки карандашом выписывал номера страниц, где он обнаруживал пассажи, вызывавшие у него особенно резкое неприятие, а также филологические ошибки, неверные цитаты и т. п. Он любил демонстрировать результаты этих разысканий. Его эстетизм включал и такое необычное проявление, как своеобразный культ антистиля, он с упоением коллекционировал особо «выдающиеся» примеры нарушения принципов хорошего вкуса и стиля. Замечал он эти проявления антистиля в творчестве великих и любимых им поэтов, в работах уважаемых им коллег по филологическому цеху и т. п. Я не хочу приводить здесь примеры подобных критических высказываний Э. А., поскольку, вырванные из контекста, они могут создать совершенно ложное представление о его картине мира. Следует лишь подчеркнуть, что свойственный ему энтузиазм и способность восхищаться художественными шедеврами и великими научными достижениями, с одной стороны, и критическая принципиальность и беспощадность, с другой, оказывались чрезвычайно эффективными инструментами воспитания вкуса и чувства стиля у тех, кому посчастливилось сопереживать этим проявлениям. Кроме того, он безусловно играл роль неформального, но исключительно важного гаранта качества научной работы в столь дорогой его сердцу исторической лингвистике.