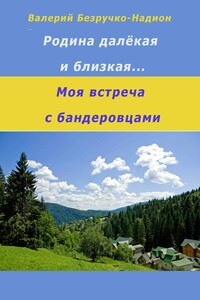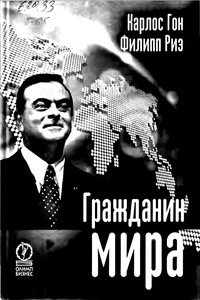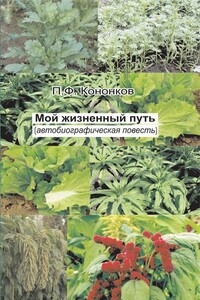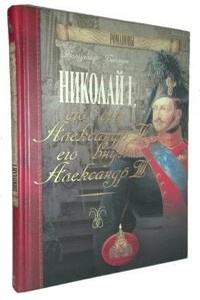Словесность и дух музыки. Беседы с Э. А. Макаевым | страница 6
В истории мировой культуры Э. А. выделял три великих эпохи — классическую античность, итальянское Возрождение и русский символизм конца 19‑го — первых десятилетий 20‑го века. Эта концепция была им разработана очень тщательно. С первыми двумя эпохами все достаточно очевидно. Что касается русского символизма, то здесь отмечу только, что Э. А. трактовал это понятие очень широко, включая туда весь круг новых подходов в философии, филологии, музыке, поэзии и прозе, пластических искусствах (живопись, архитектура, скульптура), театральном искусстве (драма, балет, опера). Причем он с горечью говорил, что естественное развитие этой великой эпохи, во многом определившей дальнейшую эволюцию мировой культуры, в России было прервано и в дальнейшем происходило преимущественно за ее пределами, во многом благодаря усилиям русской эмиграции.
Всем, близко знакомым с Э. А., была известна его любовь к Платону и Канту. В литературе 20‑го века он особенно высоко ценил творчество таких писателей, как Джойс, Пруст, Томас Манн, Верфель, Гессе, Музиль. Особое место в этом ряду принадлежало Андрею Белому. Роман «Петербург» А. Белого (в его полной редакции) был одним из самых любимых произведений Э. А. Он рассматривал этот роман как новый — великий — опыт в мире литературы потока сознания, предвосхитивший творчество Джойса. Труды А. Белого по литературоведению также входили в круг его постоянного внимания. Э. А. встречался с Андреем Белым в ранней молодости, поэтому у меня в воображении возникала прямая линия непосредственного контакта с великими фигурами русского символизма.
Любовь и интерес Э. А. к достижениям человеческого разума, накопленным в мировой культуре, отнюдь не приводили к пренебрежению новейшими достижениями в философии и культуре. Так, Э. А., по всей видимости, был одним из первых отечественных гуманитариев, оценившим гносеологический потенциал теории Томаса Куна, изложенной в его теперь столь знаменитой книге «Структура научных революций» [Кун 1975; Kuhn 1962], а также значение введенного Куном в этой книге понятия «научная парадигма», ставшего одним из самых модных концептов в современном научном и околонаучном дискурсе. Я хорошо помню, как впервые услышал от Э. А. комментарии по поводу этой теории, хотя уже не могу точно указать, когда именно это произошло. Русский перевод книги Куна вышел в свет в 1975 г., через тринадцать лет после ее первой публикации. А уже меньше чем через два года можно было познакомиться с тем, как трактовал Э. А. эту концепцию в контексте сравнительно–исторического языкознания в своей монографии «Общая теория сравнительного языкознания» [Макаев 1977: 9-10; см. об этом Порхомовский 2013: 129-131]. Если принять во внимание, сколько времени обычно проходило в ту эпоху от завершения работы над текстом научной монографии до ее публикации в издательстве «Наука», можно уверенно предполагать, что Э. А. изучал книгу Т. Куна до ее выхода в свет в русском переводе. Я специально упоминаю здесь этот незначительный факт только для того, чтобы показать, насколько тщательно и регулярно следил Э. А. за новыми достижениями в мировой науке.