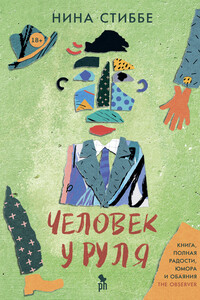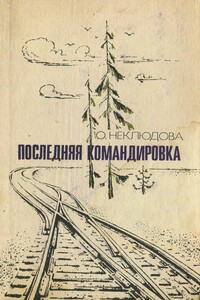Рассекающий поле | страница 105
Подошла электричка. Сева расположился у окна, лицом к трем женщинам с цветными сумками и вылезающими в проход граблями, острия которых были замотаны в платок. Он вынул из сумки пластиковую бутылку и отхлебнул тепловатой воды.
В нем еще витали пары алкоголя. А дух, казалось, готов оставить его. У Севы было явственное ощущение, что он – полый, что кожа его, подобно кожуре, сморщена и повешена на спинку скамейки. Когда на остановке двери электрички открывались, казалось, порыв ветра залетает в его нутро и шевелит занавеску.
Дорога впереди казалась такой длинной, что даже малой своей частью не принималась душой, не переваривалась ею. Дорога лезла в глаза. Бедная внутренность набивалась неживой материей, которая стояла колом. Даже удивительно, что, несмотря на крайнее опустошение, оставалась какая-то точка, в которую продолжают стекаться данные из собственных открытых глаз. Это не так мало. Полного развеществления не происходит, даже не пытайся. Хотя искушение велико. Как было бы покойно пойти в туман и раствориться в нем. В этом была бы какая-то логика – была бы какая-то связь между состоянием духа и существованием. Разве человек, умирающий от любви, не должен, не обязан умирать? Если силы покидают настолько, что ни одной надежды ум не в силах удержать, – разве не должен в таком случае прекратиться ток жизни? Это именно что логично.
Но абсурд в том, что существование продолжается. Изможденный молодой человек, привалившийся к окну электрички, приоткрывает глаза – и жизнь пошла-поехала. Аж плакать хочется от несправедливости, оттого, что жизнь не хочет тебя слушать, плевать хотела на твои переживания. Не бывает такого дна, коснувшись которого человек перестает существовать. Родничок все равно бьется, гляделки – блестят, готовые смотреть, принимать, открываться навстречу чему попало. Какое унижение романтического духа!
Электричка никак не могла вырваться из Москвы, тянулось предместье, похожее на все малые города страны разом. Вереницы гаражей, автомоек, частный сектор, промышленные здания – пространство, к которому неприменимо слово «архитектура». Но в этой бесформенности сейчас было что-то глубоко родное, одноприродное.
Это так странно, что у человека есть лицо. Что он определен в какой-либо форме губ и носа, что они его – выражают. Человек должен был бы выглядеть иначе. В виде высокого холмика угольных шлаков с вращающимися глазами на одном из склонов. Была такая детская программа, в которой одна из ключевых героинь – Куча Мусора. К ней приходили, с ней разговаривали. Это очень правильно, это очень правдоподобный образ человека. А то, как я выгляжу в зеркале, это очень неправдоподобно. А люди верят.