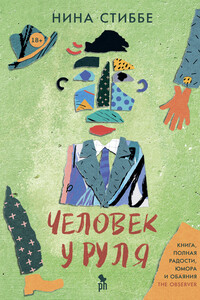Рассекающий поле | страница 104
На месте огляделся и отметил, что никогда не видел на вокзалах так много людей. Мест не хватало, многие расположились прямо на полу, бросив под зад газеты, дети седлали сумки. Толпа, вбирая в себя, странным образом успокаивала, вызывала облегчение: больше можно не маячить и отдаться коллективной волне приливов и отливов. Сева поискал глазами, где присесть, и нашел одно место между людьми с дачными сумками и инструментами.
И мусор, везде было много мусора. Газеты, бутылочное стекло, окурки, семечная шелуха, море шелухи, мятые пачки из-под всего – от сигарет до телевизоров, деревянные ящики из-под овощей и хлеба, раздавленные овощи, увядшие непроданные цветы, лужи мочи… Мусор давно уже стал восприниматься как среда обитания.
Сева не любил вокзалы больше всех иных мест. В железнодорожном запахе воплотился спертый дух беззакония. Так пахнет большая дорога, на которую страшно выходить. Как спокойно было выезжать из Ростова – сел на троллейбус, как обыватель, – и незаметно скрылся из виду. А человек, ступивший на вокзал, как будто торжественно заявляет всей скопившейся тут толпе, что он, такой-то такой-то, намерен прямо сейчас совершить поступок, меняющий его жизнь. Это опасный жест, возмутительный в ситуации всеобщей униженности. Особенно показательны провинциальные пустые вокзалы: заходишь – и чувствуешь на себе сразу несколько мутных взглядов. Слышно, как зудит муха – и звук твоих шагов. Но по залу уже прошел импульс: внимание волкам, приготовиться, в зоне видимости барашек, возомнивший себя кем-то более существенным. Взгляд сразу фиксирует тех, за кем будешь краем глаза следить. Ой, ктой-то у нас хочет кардинальных перемен? Комуй-то у нас захотелось красивой жизни? Кто у нас решил, что он такой самостоятельный и умный? Эта тюремная интонация и без вокзалов сидела почти в каждом. Домашние дети, вчерашние советские педагоги, чиновники, успешные бизнесмены и простые работяги – из уст любого можно было услышать пришедшую из блатного мира фразу «Не верь, не бойся, не проси». Слов как будто никто и не понимал, настолько подкупающе убедительным был сам жест. Думать так – значит, показывать, что ты не наивен, что ты не дашь себя одурачить. А Сева слышал другое: «Нет ничего, чему бы я поверил; нет никого, кому бы я поверил; нет никого, от кого бы я зависел; нет никого, кого бы я пощадил». Нужно было как-то специально вдуматься, чтобы ужаснуться этому. При этом Сева чувствовал, что он сам уже невольно сформирован этой психологией.