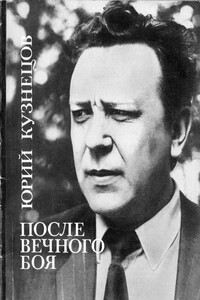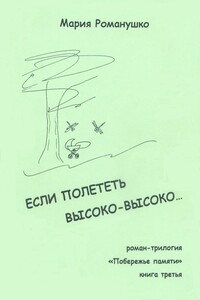Тропы вечных тем: проза поэта | страница 86
Кого муза любит, тому она прощает всё, даже грубость и побои, как она их простила нашему нежному лирику, автору: «Сыпь, гармоника. Скука… Скука». Не прощает муза только одного: фальши. Вот почему великий поток любовной лирики после Блока и Есенина стал мельчать, дробиться на мелкие ручейки, а то и уходить в песок. Отчего это произошло — вопрос сложный, во всяком случае, очевидно, что высота эстетического идеала, в общем, упала до минимума. И не только эстетического, но и нравственного идеала.
«Февраль» Багрицкого оканчивается пошлостью, «Свеча горела на столе» Пастернака находится в рискованной близости к пошлости, «Хорошая девочка Лида» Смелякова — плакат и т. д.
В русском языке глагол «Любить» неоднозначен, у него есть нравственный эквивалент: любить — значит и жалеть.
В западных языках, в частности в английском, глагол «любить» означает определённое действие, он несёт в себе не нравственный, а скорее волевой императив. Хемингуэй так и пишет о своих героях: «Они любили друг друга всю ночь».
Но отрицательное влияние Запада (своеобразный дранг нах Остен) продолжается по сей день, и не без успеха. Так волевой императив резко ощутим в знаменитом любовном стихотворении «Жди меня, и я вернусь». Упорное «жди, жди, жди меня», пронизывающее всё стихотворение, гипертрофирует личностное «я» за счёт других, даже за счёт любимой женщины.
Это агрессивный эгоизм чистой заморской воды, он чужд и не имеет ничего общего с народным воззрением на любовь.
В стихотворении Сурикова «Степь да степь кругом», ставшем народной песней, заложена совсем иная основа:
Для ямщика важно, чтоб всем после его смерти было хорошо. Он уносит любовь с собой, освобождая жену для нового счастья. «Жена найдёт себе другого», — поётся в другой песне. Чехов знал об этом, и его «Душечка» всегда находила себе другого и была счастлива. Толстой недаром восхищался «Душечкой» и считал её идеалом женщины.
Но далеко не все женщины — душечки, известно об этом было и Тютчеву, который создал ёмкую формулу любви: