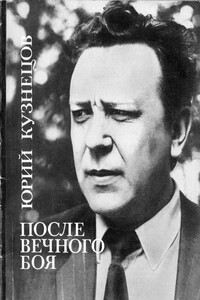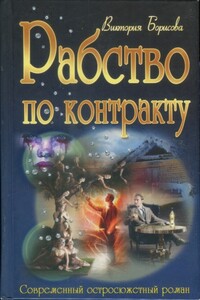Тропы вечных тем: проза поэта | страница 65
[71].
[Я оправдал все его надежды, превысил все его заветы, но его больше нет и никогда не будет. Я его буду помнить долго.]
Вспоминаю первую встречу с самой Тахо-Годи, по учебникам которой прошли десятки студенческих поколений. Она вошла, оглядела нас и спросила хриплым голосом:
— Молодые люди, неужели вы все пишете?
— Да, да, — раздались восклицания, — мы все пишем.
— Бедные, бедные! Ведь вы ничего нового не напишете, всё давным-давно написано, всё давным-давно повторено, всё есть в античности.
И седая пифия захохотала. Успокоилась и стала вести курс античной литературы.[72] Её слова заставили меня крепко призадуматься… Но что за хохот, чёрт побери! Не настоящая ли пифия хохотала над нами, бедными, бедными? Застрелить бы её из чеховского ружья! Да не достанешь — и дробь мелка, и далеко сидит.
Русский девятнадцатый век вёл М. П. Ерёмин. Он тоже смеялся, но был добрее. А чеховское ружьё (разумею реализм) вертел так и этак: и цевьё, и курки, и деталь, и идея.
Ерёмин снимал очки, протирал их, щурился близоруко и, забыв их надеть, цитировал Пушкина:[73]
— Хоть! Вот что такое «хоть»! — Он сжимал губы и словно произносил: пшик! — А какая разная мера для блага и славы! Видите? Видите?
И все видели. Так он учил мыслить. И конечно, умению читать.
Добрым и весёлым стариком был В. С. Сидорин. Он вёл текущую литературу, с которой я был не согласен. От него я усвоил словечко[74] «гробануть».
Семинар по Блоку вёл В. П. Друзин, бывший рапповец. Кажется, он знал предмет наизусть. Когда он дошёл до строк:
в зале раздалась реплика: «Это легковесно для Блока!»
Он осёкся.
— Кто это сказал?
Я назвался. Он посмотрел на меня и побагровел:
— Молодой человек, это вы легковесны![75]
— Это случайные черты легковесны.
— На что вы намекаете?
— На трагическое миросозерцание Блока.
На этом дело не кончилось:[76] Блок продолжается, Друзин забывается, я отрицаю.
Зарубежную литературу читал С. Д. Артамонов. Он легко, без напряжения, с неким галантным изыском перелетал[77] из одного века в другой. Следя за его летающей[78] мыслью, я прозревал корневую систему мировой культуры, в которой всё связано и имеет своё место[79], даже ночной горшок пересмешника Гейне, певца «Германии. Зимней сказки».
— Да! — восклицал Артамонов, подходя к окну. — При такой погоде хорошо читать Бомарше.
И, стоя у осеннего окна, начинал читать Бомарше