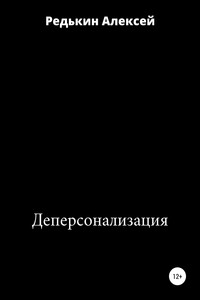Вниз по Шоссейной | страница 3
Все спят. Стоит влажная и сонная ночь конца лета.
Простите меня. Или — гот ныт кин фарыбул! Как это перевести на русский язык? — Не обессудьте?
Или лучше:
— Не таите зла?
Или:
— Не имейте обиды?
Словом, простите меня, я разбужу вас, ведь все равно скоро утро, и у нас у всех еще столько дел
И опять почему-то первым проснулся портняжка Рабкин. Он деловито шагает по булыжникам Шоссейной.
Засаленные кортовые брюки цепляются бахромой за корявые ботинки, носки врозь. Левая рука машет в такт шагам. Под мышкой правой руки сверток.
Пиджак с чужого плеча вроде фрака прикрывает дырявый зад и делает его маленькую фигурку еще меньше и смешнее.
Кепка велика, но держаться ей помогают большие оттопыренные уши. Лицо его серьезно и вроде выбрито.
Он идет сдавать заказ.
Все сделано на совесть. Заплаты прочны, то, что нужно было укоротить и нехитро перешить, сделано, отутюжено и завернуто в газету.
Большего ему не доверяют. Он — не маэстро Годкин, он — Рабкин. Живет на Новых Планах один в пыльной, полной мух комнате деревянного двухэтажного дома, что напротив дома Цыпке Калте-Васер. Ему доверяют заплаты и перешив. Принимая заказ, он чешет источенный оспой нос, смотрит ткань на просвет, нюхает ее, скребет ногтем и, улыбнувшись, от чего его глазки становятся еще меньше, назначает цену. Ничтожную цену. Так, на селедку с хлебом.
Он — мастер мелкого перешива и заплат. А почему зад его собственных кортовых брюк не укреплен заплатами? Это так. Ведь всегда сапожник без сапог.
Он идет по еще спящей Шоссейной со свертком под мышкой...
В моей памяти всплывает одна записка на клочке бумаги. Вернее, не записка, а ее текст:
«Передаю лишнее, мне не нужное. Перешейте это моему дорогому сыну».
Дорогой сын — это я. Мне двенадцать лет. Записку написал мой папа. Ему сорок один год.
Когда мама получила эту передачу, он еще не затянул петлю на шее.
Он только задумал это сделать. Ведь для этого нужна веревка или ремень.
Ремень отняли. Веревки не было.
В камеру втолкнули лохматого крестьянина в лаптях.
Кто-то спросил:
— А тебя за что взяли?
— Говорят, нейкий трохцист.
Он был голоден. Взяли из деревни. Не дали собраться.
Привыкли отбирать ремни, а оборы на лаптях просмотрели.
Отдал мужик за пайку хлеба оборы...
Наверное, сейчас нужно остановиться.
Зачем так мрачно начинать рассказ о моем Бобруйске.
Давайте о чем-то веселом.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Каждое лето в саду горсовета располагался цирк. Серый матерчатый купол, рычание львов, духовой оркестр и какое-то особое состояние праздника, тревоги и подъема.