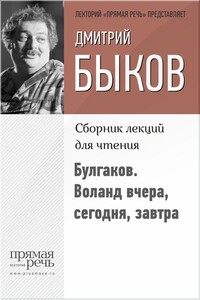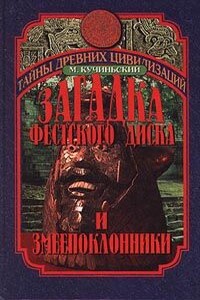Пастернак. Доктор Живаго великарусскаго языка | страница 12
С антифашистским конгрессом, который затеяли Мальро и Эренбург, получилась очень странная история. Конечно, на фоне фашизма Советская власть выглядела панацеей от всех бед. Более того, вся европейская интеллектуальная публика, не только левая, значительная часть американской интеллектуальной публики, измученной Великой депрессией, в это время ужасно полюбила Советскую власть. Многие поехали сюда. Некоторые, как Андре Жид, повидав это все, уехали в ужасе. Другие, как Фейхтвангер, по еврейской своей слабости, действительно увидели в СССР спасение от фашизма и написали восторженную книгу, с личным предисловием тов. Сталина она вышла в свет. Третьи, как Дженни Афиногенова, американская восторженная коммунистка, вышла замуж за рапповца и переселились сюда. В общем, все стало разворачиваться в пользу Советского Союза. И вот чтобы окончательно развернуть общественное мнение Запада в пользу СССР, задумывается масштабный конгресс писателей против фашизма. Туда предполагается поездка Горького. Ходили слухи (очень живучие в советском литературоведении) о том, что Горького не выпустили. На самом деле Горький ехать не захотел. Он не видел большого смысла в этом мероприятии. А ему надо было заканчивать «Самгина», и он плохо себя чувствовал. Он в результате остался.
Поехала огромная толпа никому, по сути дела, на Западе не известных писателей. А когда уж им стали задавать неприятные вопросы про судьбу троцкиста Виктора Сержа, который в это время арестован, про зажим свободы прессы в России да про начинающийся культ личности, отвечать приходилось Тихонову, самому умному из присутствующих, но именно самый умный из присутствующих разводил руками и хватал воздух ртом.
Увидев, что конгресс проваливается, а никого из известных европейских писателей не привезли, Эренбург шлет срочную телефонограмму в «Известия», а из «Известий» от Бухарина она попадает к Сталину: «Требуется немедленно Бабеля и Пастернака».
Пастернаку звонят, говорят: «Вы должны немедленно выехать на конгресс, чтобы успеть на его последние дни». Пастернак начинает гудет в трубку виновато: «Я не могу, я болен, я никуда не поеду». – «Считайте, что вы мобилизованы», – говорят ему.
На следующий день к нему приезжают, везут его в кремлевское ателье, пошивают ему костюм, но он все равно, то ли в знак протеста, то ли из сентиментальных чувств едет в единственном своем полосатом отцовском костюмчике, который ему Леонид Осипович оставил, уезжая в эмиграцию.