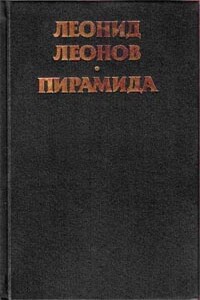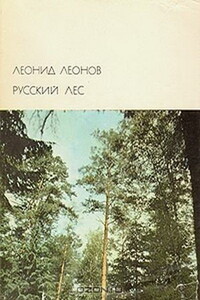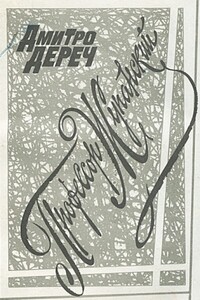Вор | страница 97
«Шепчу потому, что теперь ночь и неистовый сожитель мой храпит, точно на трубе играет, либо грызет стакан. На лампу я надел носок, чтобы даже и светом не потревожить его заслуженного сна. Буду сидеть всю ночь, все равно не засну. Слишком уж колотится сердце, как-то и вправо, и влево, и вкось, и в сторону, ровно ребячья погремушка. Стар становлюсь, с трудом переношу жизнь, задыхаюсь от каждого шага. Уж трудно становится заработать на водчонку, которою посильно облегчаю разочарования. Ведь когда грустно, Николаша, ура не закричишь, самому себе не накажешь. Видишь, верен себе остался — выпиваю. Однако предвидится мне вскоре зарабатывать хлеб просто жалостью, а уж не завиральным моим искусством. Да и тут опускаюсь: часто сбиваюсь с темы, оборвусь и не знаю, как продолжать на полученный полтинник. К тебе-то, будь спокоен, не за жалостью обращаюсь… еще существует Сергей Манюкин! Только вот расступавшееся сердце малость утихомирить хочу.
«Может быть, тебя и нет больше на свете, Николаша. Может быть, заодно с прочими умертвили тебя в минувшие годы. (Ведь каких только цветов ты не имел: и белые, и черные, и зеленые, и малиновые…) Может, давно уже постигла тебя участь, которой я сам дожидаюсь с холодной безучастностью. Но и тогда откликнись, подай голос, открой ресницы, посмотри вокруг себя. Да и на меня посмотри! Авось, это развеселит хоть чуточку могильную твою печаль и природную нелюдимость. А, впрочем, вперед, вперед шагай, Николаша, если ты жив. Если ты умер, то и без того обогнал всех нас.
«Беседует с тобой мое сердце, а слышишь ли? Кислая слеза холодит щеку и губы мне, а ведь не видишь? Ну и чорт с тобой, Николаша: бог тебе судья. Живой или мертвый, а, чувствую, ждешь отчета от меня. И не вижу тебя, а на душе так, как если бы требовал ты, кричал и топал на меня ногами. Ну, что ж, возьми свое, кесарево, недобрый кесарь мой!
«Лишь начиная с Еремея, могу описать тебе род наш. Выше теряются сучки нашего древа в туманной неизвестности. Оный Еремей, мордовский толмач, родоначальник наш, тебе и мне дед (— не знаю уж, со сколькими пра-приставками), служил российской короне и убит был в Полтавской баталии. За содеянные подвиги был он, уже мертвый, возвышен в дворянство и награжден Водянцом. Помнишь ли ты это крохотное место на Кудеме, Николаша? Совину гору и близлежащие веселые леса помнишь ли? Место моего и твоего детства! Кудрявится ли и сейчас тонкий кленок пред окном твоей детской, а может, уж и срубили на хозяйственную потребу мужики это невозросшее детище, посаженное дедом. Бежит ли мимо усадьбы попрежнему быстрая Бикань, ненаглядная татарская дочка Кудемы! (— Эх, одной поэзии отпускаю тебе на цельный полтинник, Николаша, а ведь и кусочка хлеба не требую взамен!) Берега ее в ту пору часто оглашал твой недетский, незвонкий смех. В ней ты и тонул однажды, а сторож с разъезда вытащил тебя. (Сынка его, обитающего в одной квартире со мной, я старательно наблюдаю, ибо уж очень мне все это любопытно.) Сколько суетливой тревоги приносили нам глупые твои шалости! Помнится, однажды ты разрезал руку себе, интересуясь, потечет ли у маленького кровь. В другой раз объелся ты вишен, украв их целое решето, предназначенное для варенья. Уж впору было отходную читать тебе, уж терзаясь, гадали мы, чем будем дышать, когда дышать перестанешь ты… Однако небо не восхотело отнять тебя у нас, после того как мы дали тебе касторового масла. А трех лет ты вырезал из бумаги собачку (— или даже самое Пелагею Савичну, забыл уж!) и все провозгласили тебя вдумчивым ребенком и возлюбили в высочайшей степени. Хил ты был здоровьем, рос каким-то неисповедимым образом, на зло врачам. Тебя и любили-то именно за то, что постоянно боялись, как бы не умер. Но ты не умер и существуешь, чтоб было кому осудить меня, бесславный монумент на последней манюкинской могиле…