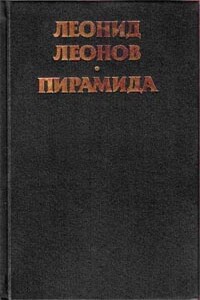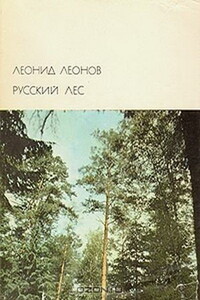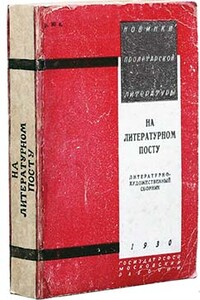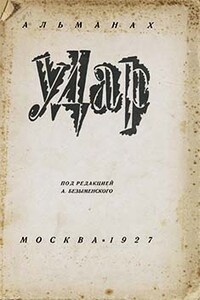Вор | страница 62
Замыслив жениться, Петр Горбидоныч наткнулся сразу на неодолимое препятствие: Манюкин. Не рискуя крупно прижать сожителя, он уязвлял его по мелочам. Митька слышал, как Чикилев язвительно докладывал домоуправлению о необходимости повышения манюкинских плат. И действительно, достаток Сергея Аммоныча был чрезмерен: он выпивал, купил нахально новые штиблеты, варил, наконец, однажды на примусе цветную капусту, каковой факт Чикилев собственнолично наблюдал, заглянув украдкой в алюминиевую кастрюльку сожителя.
— Дорогой Петр Горбидоныч, я толст, а толстым вредно раздражаться… ибо тогда они могут сделать нехорошо, — молитвенно шептал Манюкин, когда бывал пьян, искренен и смирен. — Не доводите меня до крайности, чтоб не забыл я, кто я есть. Не сожимайте беспредельно, а дайте щелку для дыханья. Не о деньгах плачу, ибо все равно нечем мне уплатить ваших налогов. О том плачу, что теряю человечность, а взамен приобретаю скотство…
— Не противьтесь, гражданин, декрету! — уничтожающе фыркал Чикилев и крутил ус. — Приду и опишу ваш примус. Могу и выселить… Мой совет, по искренству, поступайте на службу и переходите в общежитие.
— Не примут меня, я же бывший… — утончался манюкинский голос. Сам он протягивал при этом руку к пуговке на чикилевском френче, но тот неподкупно отстранял заискивающую руку. — Верчусь, и в скором времени могу соскочить с оси. Кроме того, я могу вас укусить… приду, наскочу и откушу, например, ухо.
— Не отступлюсь, а стану биться! — чуть бледнея приотступил Чикилев. — Закон стоит на-страже моего уха. Но я хочу по совести… А вдруг я женюсь, вследствие чего родится ребенок? (— Характерно, я не хочу дюжину разводить, но одного для интересу и продолжения природы очень любопытно!) В ваш угол солнца больше падает, чем в мой, а для ребенка, заметьте, солнце необходимо, как ласка матери-с! Понимаете теперь смысл борьбы моей?
Крикливый их разговор привлек остальных жильцов ковчега. Выползши в коридор, они окружили спорщиков, а вот уже подходил и Митька, чуточку пьяный и оттого невоздержный на слова.
— Эх, Чикилев… — укорительно заусмехнулся он, — кантики-то переменил, а душа-то осталась волчья, прежняя. Душу перемени, Чикилев!.. — И сиплым голосом он распространился о жалости, о человечности победителя и многом другом, столь туманном, что не под силу было пробраться там даже и организованному разуму. Повидимому, образ уязвляемого Манюкина заместился в его голове своим собственным.