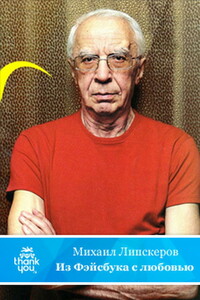Посеянным в огонь | страница 8
И тогда, шаг за шагом, стали появляться мысли. Другие, прочие, разные — они лезли в голову, и что-то менялось в бойце по имени Харви и в окружающем его мире. Он отогнал скопление мыслей одним нервным вскриком. Он остановился и спросил себя: «Что случилось?» Все мускулы набрякшего лица дергались, как живые, самостоятельные организмы. И тогда он догадался и на долю секунды ужаснулся тому, что случилось.
Он боялся оглянуться назад.
«Не плачьте», — сказала она, и Харви мог бы сосчитать каждую жилку в ее красных, раздутых глазах. Ее губы потянуло вниз, и появилась эта дьявольская улыбка. Харви, уже все понимая, заглянул ей в рот и закрыл глаза. Все было на месте. С ее клыков капало.
Еще одна присосалась, подумал он. Почему они так хорошо слышат его? Как она догадалась, что его рука дергается?
Потом он сбил ее ладонь с плеча, встал и ударил кулаком в губы…
В тот день Ина оставила записку родителям и ушла в лес. Фабрику решено было прогулять. В Федоскино она считалась из лучших, подающих надежды живописцев, со своеобразной манерой письма, и поэтому в план ее не включали. Она могла вообще бросить кисть — ее бы поняли и мягко согласились. Да, Ина. Значит, так надо. Смешные нарядные человечки с Иванушкой Скоморохом, словно персонажи аккуратной деревенской ярмарки — напрочь выдуманной России, — да кому какое дело, что такой России просто никогда нигде ни за что не было? Глубь веков была придумана ею — выдумка Ины пленяла худсовет фабрики. И столичных покупателей. Ина занималась росписью шкатулок.
Бесцельное блуждание и бессвязные огоньки мыслей. Она думала о Харви, но вовсе не хотела в этом себе признаваться. Он был только началом, основой ее мира, а дальше… Ина любила ходить босиком, в грубом льняном сарафане, что с крупной вышивкой на груди и по оборке. Он напрочь был лишен талии, этот бабушкин балахон, и когда спадающие волосы придерживал кожаный ремешок, а через плечо свисала дорожная сумка, то преображение в лесную славянку было разительным. Вечером стало тревожно. Она возвращалась к деревне и думала о том, что Харви уже должен был вернуться. Но сейчас идти страшно, отец его по вечерам пьет жестоко, словно решил себя выжечь дотла, страх пробирает, когда слышится за околицей его смех — дикий, раскатистый. Ина боялась этого человека.
Значит, утром. Она вздохнула. Прежде чем пойти на фабрику, я зайду к тебе, Харви. Я принесу тебе еловых шишек.
Утром она вдруг поняла, что совсем не хочет идти туда, в дальний конец деревни, где стоял его дом. Она подумала, что утро вовсе не ласковое, обозвала себя эгоисткой и, бросив работу в холщовый мешочек, отправилась по самой длинной улице древнего становища художников лаковых миниатюр. Она шла с каким-то решительным упрямством, надув губы и твердо поставив себя на место. Харви один. Единственный. Когда она выходила, родители еще слали, только бабка гремела ведрами в сарайке.