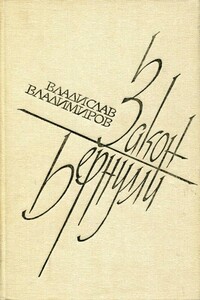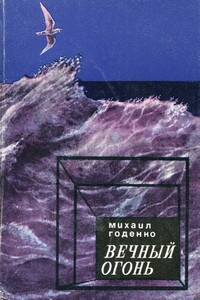Колесом дорога | страница 77
— Я тут, мама, батька...
Прорва молчала, хотя что-то гудело в ней, будто там, в глубине, шла какая-то работа. И его потянуло посмотреть на эту работу, только посмотреть, увидеть одним глазком. Он склонился над Чертовой прорвой, словно встретился с ней впервые, словно оказался вдруг не на обжитой и понятной земле, а на какой-то неведомой планете, ворвался в неведомое ему и пытался понять это, потому что от этого зависела его собственная жизнь. Но не только он>г изучали и его, что-то вспыхивало в глуби, прорывались, булькали пузырьки воздуха, словно кто-то пытался ему сказать что-то и захлебывался в чужих, непривычных словах; зажигались, мерцали и гасли какие-то огоньки, гасли, чтобы через минуту зажечься снова в другом месте. И оба они — бездонная черная пропасть, лежащая перед Матвеем, и сам Матвей — устали и отчаялись понять друг друга.
Прорва тяжело'дышала, он видел это дыхание, ощущал его по равномерному всколыхиванию отстоявшейся, но масляной, густой в ночи воды, будто смотрел не просто в окно, в дырку в земле. И Матвей почувствовал, как у него начинает кружиться голова, расслабляться тело. Его уже тянуло туда, в прорву, но тут уши ему резанул плач женщины за его спиной. Матвей прянул от Чертовой прорвы, и женщина в белом, стоящая за его спиной, тоже отпрянула. Он погнался за этой женщиной, скорбя по неслучившемуся, по непознанному, на краю которого он стоял. Женщина уводила его из Свилево. Она бежала, вернее, скользила по воздуху, не подпуская его к себе, к той близости, когда он мог уже схватить ее, но и не уходя слишком далеко, чтобы не потерял надежды. Матвей, отчаиваясь и надеясь, гнался за ней, умоляя ее открыться, сказать свое имя, шептал имя матери и Алены. Он уже выдохся, он уже отчаялся, чем дальше от Свилево, чем ближе к деревне, тем быстрее бежала женщина. У деревни она уже не бежала даже, а парила, все больше и больше отрываясь от него. И вот только облако белое и бесплотное колыхалось в отдалении. Матвей остановился, остановилось и облако.
— Кто же ты, кто? — спросил он.—Мама, Алена? Спасибо кому говорить, звать кого? Голоска?
— Го-го-лоска,— отозвалось вдали. Никого не было, только ржаное поле, и он среди поля, вымокший от росы, перемазанный желтой и вязкой пыльцой цветущей ржи.
***
Тимох Махахей вышел на берег речки к Стрелке, где издавна был брод, где в любое лето переходили ее князьборцы, переезжали и на подводах. Сейчас, хотя воды в речке по сравнению с прежними годами заметно и убыло, переехать старым бродом было невозможно. Заметалась в последнее время речка, подмыла съезд с берега, из плавного спуска сделала кручу, на которую никаким воликам не взобраться. Но он мог, хоть и с грузом, спуститься: под берегом, у самого обрыва, воды от силы по пояс, дно как на ладони, видно даже, жируют там, играют плотки, ладные, верткие, так и просятся на уду, бьют в бок одна другой, дразнятся. Тимох посмеялся, отвел душу, глядя на них, укрывшись за грушкой, росшей здесь же, на берегу, на виду у деревни; когда-то грушка эта стояла в лесу, среди дубов, а сейчас дубы попадали, подмытые речкой, вот-вот должна была упасть и грушка. Тимох глазом следил за плотками, а ухом прислушивался, как борется она корнями с водой, как гонит эту воду к листьям, как понимающе и друэкно гудят в листьях пчелы. Наслушавшись, натешившись, пошел берегом вверх по речке, совсем в другую сторону от своей хаты. Не решился переходить здесь, на виду у всей деревни, у рыбаков, удивших рыбу в озере и речке, у купающихся, загорающих на Бабском пляже девчат, и виной всему был груз Махахея. Стыдно показать его людям, подумают еще, а то и скажут, не заржавеет: на старости лет, как дитя неразумное, погнался за игрушкой, за цацкой, купил гармонику. «А чтоб тебе, Махахей, лихо было»,— посмеялся сам над собой и зашагал веселее, торопливее. Не терпелось ему все же попасть домой, раскрыть чехол, подержать в руках игрушку. И играть он не мог, хоть плачь, не выучился. Раньше во всем селе гармоника была только у деда Демьяна. И дед сам знал всего лишь три танца: польку-трясуху, краковяк и вальс «На сопках Маньчжурии», но играл исправно на всех деревенских вечеринках князьборским хлопцам и девкам, играл и ему, Тимоху Махахею. Собирались в деревенской хате, каждый раз в другой, по очереди, приходил дед Демьян, садился в красный угол под божницу, я^дал, пока поднесут. Ему подносили. Но, и выпив, дед все еще ждал, и хлопцы знали чего. Самый бойкий из них, покойник уже, сын деда Антон Ровда кричал: