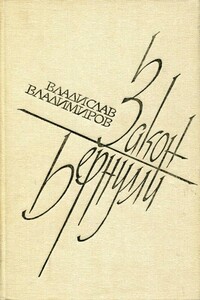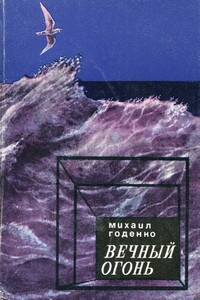Колесом дорога | страница 78
— Грай, бо грало поломаю!
— А гроши? — хитро жмурился Демьян, скромненько снимал шапку и кверху лоснящимся, что юфть, дном ставил ее на стол. И сыпали деду в его шапку гроши, кто пятак, кто гривенник, а кто и семечек- гарбузиков горсть. Гарбузников дед устыжал:
— Марш на печь к матери, нема грошай, и к девкам лезти нечего.
— [Гы что, дед, то ли не ведаешь, как мужик цыгана гарбузиками обдурил?
— Не ведаю и ведать не хочу.
— А ты послухай. Заспорили мужик с цыганом, кто лучше детей накормит. Червонец золотой на кон. Взялся мужик цыганских детей кормить. И баранок, и булок им, и пряников. Наелись, пузо трещит, а он им еще гарбузиков. Приходит цыган и шарах на стол полную шапку конфет. Не глядят они на конфеты, Цыгана очередь, тот тоже дал поести, штаны не сходятся. Мужик приходит с проверкой и карман гарбузиков перед ими по полу. Мужицкие дети в драку за гарбузики, будто год еды не видели. А ты — марш на печь...
— Складно брешешь, сам добры брехун, а таких не встречал,— говорил дед.— Черт с тобой, в хозяйстве и гарбузики пригодятся.
И врезал польку-трясуху, путая ее с краковяком. Но это все ж была музыка, и летело все кувырком в хате, шла колесом и сама хата. «На сопках Маньчжурии» дед играл старательнее, чище, но уже притомившись, за полночь. И тогда вновь выходил вперед Антон Ровда.
— А, дед, грать ты не вмеешь.
— Я не вмею грать! — свирепел дед.— Забирайте свои гроши, каб и духу вашего не было,— и кулаком шибал со стола шапку с медяками, серебром и гарбузиками. Хлопцы наваливались на ту шапку, ловили свои денежки и расходились.— Я грать не вмею,— ворчал Демьян, поднимая с пола шапку и нахлобучивая ее.— Як мне гралось, каб вам так с... — Рассерженный, в одиночестве брел домой, чтоб завтра повторилось все снова.
Но в войну, то ли уже после войны извелись в Князьборе вечеринки, извелась и гармоника, хотя жили все на виду, куда она подевалась, Махахей не может и припомнить. А он тосковал по ней. Тосковал в армии, на фронте и вернувшись с фронта. Дал себе зарок: жив останется, заработает себе на гармонику. У ворот под хатой у него растет куст черемухи, посадил перед войной, вкопает он под тем кустом скамейку, сядет и с утра до вечера будет играть. Девкам своим будет играть, бабе своей, всей деревне, а надоест слушать людям, так ежикам станет играть, они живут в его хате под завалинкой и утром выползают на солнце, греются на кострице, а вечером приходят в хату. Как начнут носиться, кошку гонять, хоть уши затыкай. Лапками, коготочками скреб-скреб-скреб по полу, а потом чмых-чмых-чмых. Это, наверно, на крошку табака наскочили. Кино, прямо. Об этих ежиках он тоже все время помнил на фронте. И сейчас только подумал о них, как, чудо-чудное, выкатился ему на стежку под самые ноги еж. Большая, старая, иголки и те пожелтели уже от старости, ежиха. Выкатилась, повела буроватым пятачком-носиком в его сторону, фыркнула, чмыхнула, будто упрекнула в чем-то, стрельнула настороженными глазками, моргнула седыми веками и в клубок, возьми меня за рубль двадцать. Свел брови, заморгал и Махахей, оставил гармонику, склонился над ежихой, погладил. И не почувствовал колкости, не потому что мозоли у него были, как кора у дуба, не укалывалась рука, его руку сейчас можно было резать ножом, огнем печь.