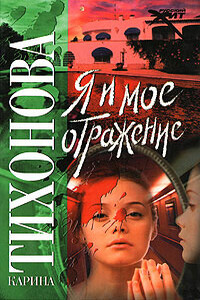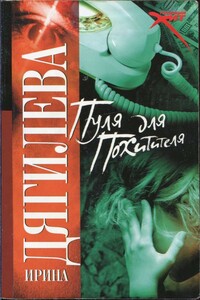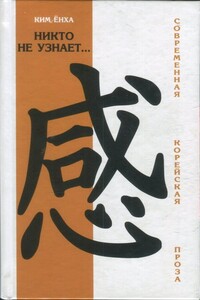Кандагарский излом | страница 86
Я, робея, села за стол. Мне было неудобно есть, пить в доме человека, который уже знает, кто я, а значит, понимает, что я…
— Одно скажи, только честно: Бэлку ты убила? — нависла надо мной тетка с чашкой горячего чая в руке.
— Нет, — дернулась я, заподозрив, что получу сейчас кипятком в лицо.
— Так и думала, — кивнула Полина Елисеевна и поставила передо мной чашку. — Родители-то у тебя где? Откуда сама-то?
Я долго смотрела на чаинки, плавающие в чашке, на дымок, что вился из нее, и нехотя разжала губы:
— Нет у меня никого. И меня — нет.
— Вот тут поспорю. Выглядишь ты, спору нет, привидением, однако голова работает, говорить, худо-бедно, сподабливаешься, значит, не совсем еще нет тебя, осталось что-то, цепляется за жизнь. Глядишь, и росток даст, наладится.
— Почему вы так говорите?
— Как?
— Как с родной. С близкой.
Тетка подвинула мне тарелку с золотистыми пирожками, бухнула себе в чашку два кубика рафинада и только тогда сказала:
— Осудить да во враги записать я тебя всегда успею, только видела я таких, как ты, измолотых, что тряпка на балконе сохнущая. Была б ты нелюдью, подлюкой какой, сюда б не пришла. Ты ведь знать не знаешь, что Изабелла у меня только прописана, чтоб, ежели помру, было кому квартиру передать, а сама да мать ее на другом конце города жили. Сюда сроду не захаживала, дурой меня старой считала… Как хоть погибла?
— Не знаю. Вроде при обстреле, случайно.
— Откуда ж документы ее у тебя?
— Подруга поменяла.
— Зачем?
Я могла наврать, но не хотела. Отчего-то мне казалось, что этой женщине можно рассказать все, даже нужно. После немой реакции ребят на мой близкий к истине рассказ мне было очень плохо. Их молчание, принятое мной как однозначное осуждение и даже презрение? разом вычеркнуло меня из списков своих, кинуло в ряды отверженных — тех, кого презирали по делу из века в век, в любом строю, любом обществе. Мне было тошно жить Иудой, но жить без Павлика — невозможно. Эти два факта сплетались в уме и мутили его, смущали душу. Я путалась, плавала в мути переживания и пыталась то забыть произошедшее, то оправдать себя, то наоборот — очернить, убить воспоминаниями.
Мне было не разобраться одной — не хватало сил и желания дойти до конца, как йог, ступая по углям памяти. Но просить помощи я не имела морального права. Робкая попытка ее получить обернулась потерей последнего ориентира — ребят. Своим поступком я отрезала все нити, что незримо связывали прошедших горячую точку и не осквернивших себя, не предавших товарища. Я сломалась на финише и теперь не имела права даже мысленно причислять себя к военному братству. Я не имела права даже на самое сокровенное — воспоминания о Павлике. Ведь он был чистым, искренним, он был частью незапятнанного отрезка моей жизни, он любил, а я…