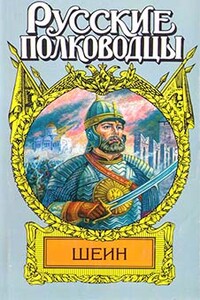Рембрандт | страница 33
— Что же тебе нарисовать?
Положив на колени лист бумаги, он карандашом стал быстро набрасывать рисунок.
Ульрих Майр засмеялся:
— Ну, ну, ты совсем избалуешь мальчугана!
Но, по-видимому, он тоже не прочь был на минутку отвлечься от работы и немного рассеяться. Через несколько мгновений проворные руки двух художников так и летали над бумагой. На глазах у Титуса белые листы покрываются завитушками, линиями, штриховкой и надписями по краям; и оба молодых художника весело и радостно смеются, дав волю неожиданно проснувшейся в них буйной фантазии.
С пачкой рисунков подмышкой спустился Титус по лестнице и спрятал их в прихожей; затем отправился в столовую, где Рембрандт с нетерпением ждал сына, чтобы расспросить его о школе.
X
И вот каждое утро этой серой осени повторяется одно и то же: Титус должен идти в школу. Его неизменно гнетет страх, хотя где-то в глубине души теплится надежда, что сегодня его, наконец, не будут мучить; но как только он издали заслышит крики школьников, им овладевают робость и такой же тупой ужас, как в первый день, когда он не решался переступить порог школы. Затем в течение дня — медленное приспосабливание к окружающей враждебной обстановке, временами — приливы мужества, робкая попытка выкинуть за спиной соседа маленькую шалость, чувство гордости при одобрительных выкриках старших мальчишек. Но уже в следующую минуту наступает отрезвление: учитель неизменно ловит его и наказывает, и Титус — снова мишень для насмешек школьников. Все смотрят на него, а он, точно пригвожденный к позорному столбу, стоит у кафедры и после кратких мгновений торжества испытывает невыносимое унижение.
За стенами школы он иной раз находит защиту у тех, кому приносит забавные, удивительные картинки, или у тех, чей авторитет он покорно признал; но гораздо чаще и эти ребята им пренебрегают, отталкивают его, бьют или покидают на произвол судьбы, когда другие его обижают. Необузданные взлеты фантазии, легкомысленная и непостижимая храбрость сменяются в его душе страхом, отчаянием, горьким сознанием бессилия и никчемности. А иногда на него нападает скука, особенно в долгие послеполуденные часы с их мучительным однообразием; неинтересный счет, медленное чтение, почти уже утратившее для него свое очарование, чтение наизусть катехизиса, который он заучивал с необычайной легкостью. А дома за столом, подражая монотонной напевности, с какой полагалось в школе читать катехизис, он вызывал громкий смех отцовских учеников, хотя Рембрандт строго поглядывал на них, а Хендрикье укоризненно качала головой…