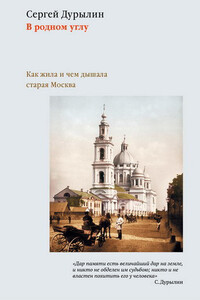Лермонтов | страница 29
Этот успех у самых строгих из читателей — у лучших писателей своего времени — не ослабил, а увеличил критическую строгость Лермонтова к своим произведениям.
«По возвращении в Петербург, — вспоминает А. П. Шан-Гирей, — Лермонтов стал чаще ездить в свет, но более дружеский прием находил в доме у Карамзиных, у г-жи Смирновой и князя Одоевского. Литературная деятельность его увеличилась… Это была самая деятельная эпоха его жизни в литературном отношении. С 1839 года стал он печатать свои произведения в «Отечественных записках»; у него не было чрезмерного авторского самолюбия; он не доверял себе, слушая охотно критические замечания тех, в чьей дружбе был уверен и на чей вкус надеялся, притом не побуждался меркантильными расчетами, почему и делал строгий выбор между произведениями. которые назначал к печати».[18]
К суровому: «Ты сам свой высший суд», которому Лермонтов следовал всегда, он прибавил теперь не менее строгий суд друзей. Лермонтов прочно вошел в круг друзей умершего Пушкина. Он бывает там, где любил бывать Пушкин: в литературном салоне Е. Л. Карамзиной, вдовы Н. М. Карамзина, автора «Истории государства Российского», у А. О. Смирновой, воспетой Пушкиным, — у нее собирались В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, П. А. Плетнев; он посещает дом князя В. Ф. Одоевского, писателя-мыслителя, в ученом и литературном кабинете которого можно было встретить М. И. Глинку знаменитых исследователей, начинающих поэтов, дипломатов, заезжих путешественников и итальянских певцов.
В 1838 году Лермонтов поставил точку под эпилогом «Демона».
Он закончил в «Демоне» и свою давнюю философскую исповедь и поэтическую автобиографию. В монологах и признаниях мятежно-тоскующего героя поэмы запечатлелись томления и искания самого поэта, а в истории любви Демона и Тамары отобразилась, вплоть до печального эпилога, собственная любовь Лермонтова к В. А. Лопухиной — любовь, которой не суждено было дать ему ни счастья, ни успокоения.
Герой поэмы зовет Тамару «в надзвездные края», в свободно-прекрасный край:
В картине этой ненавидимой Демоном рабской жизни Лермонтов обобщает не только унылую действительность николаевской России 30-х годов, — он обобщает в этой горько-печальной картине и тот «европейский мир» (выражение самого Лермонтова), который дремал после бурь французской революции и наполеоновских войн в тишине реакционного застоя.