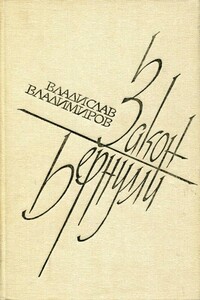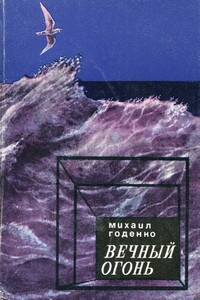Тучи над городом встали | страница 38
Потом, когда я просыпался, было почти темно, море зеленовато-красное, по-вечернему ярко мерцающее — солнце уже влезло в него довольно глубоко. Пляж совершенно опустел и казался гораздо просторнее, чем днем. Отец кричал мне: «Сонная тетеря!» — и бежал к морю, а я за ним. Мы оба ложились на спину, лежали на теплой, податливой волне, оба разом переворачивались и одновременно плыли к флажку. Мы доплывали до флажка, и я поворачивался. Отец кричал нарочито строго: «Не смей поворачиваться, не трусь, такой-сякой, плыви в открытый океан!» Он подсмеивался надо мной. Он знал, что я плаваю хорошо, но когда заплываю за флажок, начинаю трухать. До флажка мне казалось — одно море, а за — другое. До — было разрешенное море, а значит, в нем нельзя утонуть, за — неизвестное, запрещенное, именно в нем-то и тонут...
Отец издевался надо мной. Он кричал, гоготал, махал руками, выдумывал всякие прозвища: «Трусище! Трусогузка! Генерал Трусилов!» Я колебался всякий раз. Берег был не близок, но и не далек. Он был ощутим. Он был магнитом, а за флажком сила магнитного поля кончалась. Я колебался. Отец хохотал, я видел его забрызганное водой, загорелое лицо. Я боялся моря, но я боялся и другого. Потерять уважение отца. Я знал: сейчас он уважает меня... А если я стану трусом, он перестанет меня уважать. Это всегда решало. Пропадать, так с музыкой, говорил я себе и переплывал черту флажка. Отец никак на это не реагировал, не бил в ладоши, не хвалил меня. Он спокойно плыл дальше. Я за ним. Он дальше, я за ним. Все дальше и дальше от берега. Впереди было много моря, много пространства. Бесконечность. Я плыл за отцом. Плыл спокойно, экономя силы. Впереди я видел голову в синей шапочке, иногда из волны сверкали плечи, коричневые, гладкие, как обкатанный камень. Я плыл за ним. Только за ним. Я хотел всегда плыть за ним. Всю жизнь. А если он будет старый? Все равно — за ним. Он никогда не будет старый. Потому что он мой. И он никогда не умрет, потому что он мой. И я никогда не умру, потому что это я.
И я плыл, чувствуя себя счастливым, а он поворачивался и возвращался ко мне и делал вокруг меня круги и хищно округлял глаза, как акула.
— А здесь бывают акулы? — спрашивал я.
— Бывают.
Я знал, он придумывает. Но так было интереснее, и я почти верил ему.
— Какие? — спрашивал я.
— Злобные, — говорил он. — Злобные акулы империализма.
— Где они? — хохотал я.
— Там, — серьезно говорил он и показывал в сторону Турции.