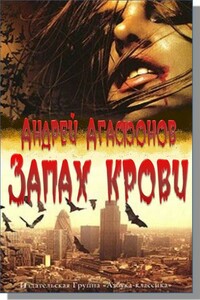Голый без электричества | страница 32
Но мой телефон молчит.
6
Время ночное, гулкое, волчье. Уличные фонари засматриваются в темные окна. Мне не с кем поговорить, даже мысленно; я оцепенел в ожидании. Ни страха, ни надежды — покой и неподвижность. Редко бывал с собой в последнее время, и вот теперь — мы одни. Ну что, подонок, выкладывай…
Когда–то сформулировал свою жизненную философию таким образом:
«Я доволен тем, что ни в чем себе не изменяю, поступаю по собственному разумению — и это продается». Я был успешен, и залог успеха видел в верности себе — а раз так, зачем меняться?..
Но, поднимаясь, я остывал. Лишался друзей и постепенно лишился их совсем. Стихи становились все точнее — я говорил именно то, что хотел сказать, — но в них оставалось все меньше чувства, души. Я за все платил очень дорогой ценой — а ведь многое из того, за что я платил, можно было взять просто так… В ту заливистую ночь, когда я напряженно думал о самоубийстве, я убеждал себя, что такова — жизнь: ВСЕ несчастны, и с возрастом делаются еще несчастнее. Мои учителя, мои любимые писатели — я уверен, что их новые книги, слава, даже свобода и деньги, — все это не доставляло им утешения. Наслаждения избавляли их от ужаса жизни — но надолго ли? Когда гаснет свет, и настает ночь, и ты, обессилев, лежишь в постели один — кому ты будешь рассказывать сказки о том, как тебе хорошо, какой ты непредсказуемый и живой? Все — только тени перед лицом потолка; зябнущие, дрожащие тени, отброшенные прочь нашим хозяином, как бы его ни назвать.
И, вы знаете, меня это прельщало. Быть несчастным, быть тенью в мире теней. По мне, это означало то же самое, что быть творцом, личностью. Это было так романтично…
Но что, если романтик — та же свинья, только лежащая брюхом вверх? У нее глаза так устроены, что она ничего не видит, кроме неба, и ей наплевать, на чем или в чем она лежит.
Периодически оказываясь по уши в дерьме, я должен был бы догадаться, что это мое собственное дерьмо — а я все пенял судьбе и Вечной Женственности… Да еще Ницше.
7
Сколько себя помню, искал одиночества, уединения, и страдал, не находя его подолгу. Потом научился замыкаться в себе настолько, что стал болтливым. И понял, что самое глубокое одиночество — вдвоем.
Презирал счастье. Человека легко сделать счастливым, говорил я, — всего лишь взять пункцию головного мозга. Слюна по подбородку, пустые глаза: счастливей не бывает!
Куда труднее, думалось мне, сделать человека несчастным. А уж сделать несчастным себя — настоящая доблесть.