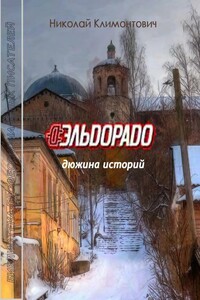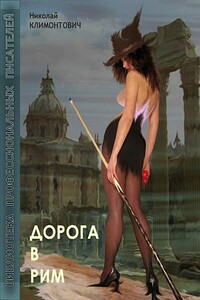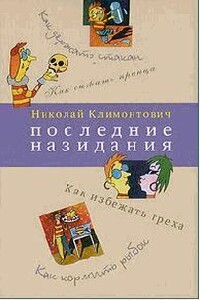Парадокс о европейце | страница 136
Община оказалась устроена не совсем идеально, не по теории, не по чеканной кабинетной формуле образцовой коммуны. Земля была, конечно, в общем пользовании, но произведенный продукт и скот были общими лишь отчасти. Мелкая живность оставалась по частным дворам. Общественными были лошади, к ним приставлены были два выборных конюха. И овчарни – овец пасли выборные же пастухи. Выборы утверждал совет, который собирался по звону толстого железного бруса, висевшего в воротах конюшни. Ни о каких совместных трапезах под чтение цитат из замечательных сочинений их земляка, выходца из еврейского местечка в Херсонской черте оседлости, Льва Троцкого, что практиковалось в соседней общине, как и о коллективном воспитании детей здесь, конечно же, никто никогда не помышлял.
– Кооператив – это хорошо, нам подходит. А так – мы, ежели что, всей общиной и в партию вступить можем, наша вера позволяет, – объяснял Фридрих Маркс. Говорил он с издевкой или это показалось Иозефу. – Будет хорошая ячейка. Вот только уж, пожалуйста, по праздникам кто-то из наших непременно на православных службах бывать будет, мы молиться хорошо умеем. Пасху так и так справляем, по всем календарям… (19).
Все это Маркс говорил на всякий случай: он еще не разобрался, какой веры потребует от него комиссар: партийной или православной.
Свободного дома в поселке не оказалось. Зато контора двух этажей – с четырьмя белыми колоннами и многими слепыми окнами, бывший барский дом – крашенная буро-бордовой краской, была просторна. Председатель коммуны Маркс использовал только одну комнату в первом этаже – для приема заявлений. А все остальные предложил Иозефу – на выбор. Иозеф выбрал ту, что так же, как и канцелярия, смотрела на улицу, вообразил, что с таким видом ему будет легче вникать в подробности поселковой жизни. Другая, задняя комната, смотрела в степь. На уже побуревшие на солнце – под стать самому зданию – старые обветренные курганы.
Первый посетитель не заставил себя ждать. Это оказался не немец вовсе, а еврей в новом картузе, в белой с голубыми горошинами на миткалевой рубахе и при галстуке. Лет ему можно было дать от тридцати до пятидесяти, эта неопределенность возраста у многих здешних людей была следствием перенесенного голода.
– Можно садиться? – начал он и сел на табурет.
– Я вас слушаю.
– Несчастья начались, как я схоронил два года назад жену от холеры. Тогда пришел продотряд, сказал про продразверстку и трудгужповинность, солдаты съели корову, выпили весь колодец и забрали с собой единственную оставшуюся в живых дочь Цилю для красноармейских нужд… Ну, вот я и пошел в коммуну. Больше идти было некуда.