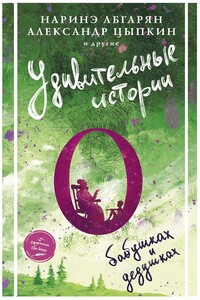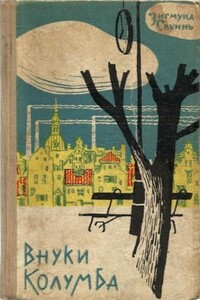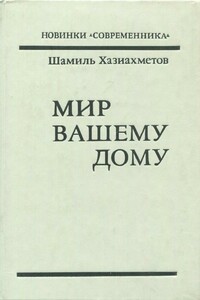Повести писателей Латвии | страница 4
Я протянул продавщице десятку — то были еще старые деньги, — взял бутылки и небрежно заявил:
— Мелочь не надо. Только карманы рвет.
А девчонки передо мной пересчитывали каждую копейку! Множество глаз уставилось на меня: и удивленных, и сердитых, в том числе глаза преподавателя, групоргши, Дзидры и мало ли еще чьи.
Ну, пускай глазеют, если человека не видали. Жалко, что ли?
Одну бутылку я сунул в карман синего эстонского плаща, расстегнул его, за ним — пиджак и пряжкой от ремня открыл вторую бутылку, успев на лету подхватить в ладонь металлическую пробку. Нельзя же сорить на пол!
Тут уж окаменели все. Они открывали лимонад при помощи колец или о край ящика, а такого циркового номера никто из них, наверное, не видал. Можно было бы, конечно, открыть бутылку и зубами, но тогда во рту остался бы железный привкус, а я его не люблю. Я уже поднял бутылку, чтобы поднести горлышко к губам, как вдруг заметил, что из конца очереди на меня смотрит Дзидра, и тут же, не задумываясь, протянул бутылку ей:
— Прошу!
В магазине стояла мертвая тишина, в которой мое «прошу» раскатилось как удар грома. Дзидра нерешительно взяла бутылку, девчонки стали перешептываться, я под шумок открыл вторую и осушил, не отнимая от губ, потому что пить мне и в самом деле хотелось.
Дзидра отпила из своей бутылки от силы пятую часть; сразу было видно, что пить из горлышка она не умеет. Тут к нам подошла групоргша и неуверенно — от смущения, наверное, — объявила:
— Употреблять алкогольные напитки студентам не рекомендуется.
— А это и не алкоголь, — улыбнулась Дзидра. — Это портер.
Я не расслышал, что ответила групоргша, потому что улыбка Дзидры показалась мне до боли знакомой. Только никак не вспомнить было, где же я раньше встречал девушку. Так я и стоял, задумавшись, пока Дзидра не протянула мне посуду, где оставалось еще больше половины:
— Пей, и поедем. Мне больше неохота.
Где же и когда я встречал ее? А она меня тоже знает? Предупредила, что впереди по дороге попадется магазин, — выходит, она из этих мест. А значит, могла запомнить меня с тех времен, когда, вскоре после войны, я шатался в этих краях; могла заприметить, когда я мешочничал, или же…
…Или же лучше сказать Нориным брату и матери, что я поленился пройти лишний десяток километров, чтобы передать ей гостинцы, что я испугался, как заяц, потому что в лесу, где мне пришлось бы пробираться, шла перестрелка. Пусть уж они сами позаботятся вручить Норе узелок, что лежит сейчас в моем рюкзаке. Тем более, что ничего срочного там нет. Саша посылал сестре книги, без них пионервожатой Норе уж, конечно, никак невозможно было обойтись, — стишки, вернее всего, а также общую тетрадь для дневника и еще, наверное, какой-нибудь крем для лица или шампунь для волос, того сорта, каким торговали старухи на толкучке. Когда немцы в дни разгрома распахнули двери своих складов, люди хватали что под руку попало, а потом пытались ненужное барахло обменять или продать на базаре. А содержимое узелка Нориной матери я знал точно, потому что сам помогал собирать его: две пары белых бумажных носков домашней вязки, белые теннисные туфли и две коробки зубного порошка, чтобы содержать их в чистоте. Белые тенниски, по убеждению Нориной матери, были самой подходящей обувью для деревенской грязи и пыли. Стоило бы посмеяться, не будь так погано на душе.