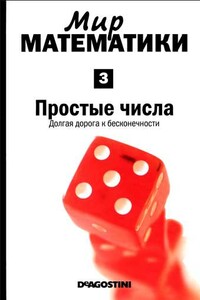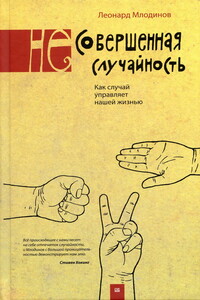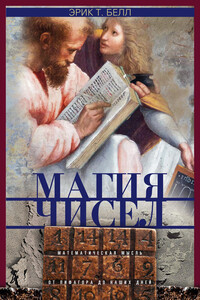Том 18. Открытие без границ. Бесконечность в математике | страница 14
Можно подумать, что понятия дискретного и непрерывного достаточно просты и интуитивно понятны. Тем не менее на протяжении многих лет они были предметом жарких споров: с одной стороны, они вовсе не просты, а с другой — потому что, как вы увидите чуть позже, интуиция не всегда хороший советчик, так как один и тот же предмет может казаться нам дискретным или непрерывным в зависимости от масштаба наблюдений.
Споры о дискретном и непрерывном вращаются вокруг понятия бесконечности, поэтому неудивительно, что они протекают скорее в философской плоскости, подобно противостоянию между пифагорейской и элейской школами в Древней Греции, которое ярче всего проявилось в парадоксах Зенона.
Ключевой вопрос состоит в том, является наш мир дискретным или непрерывным. Ответ на него очень сильно зависит от наших ощущений и, как следствие, лежит в плоскости теории познания. Не предаваясь философским размышлениям и не углубляясь в психологию, в начале XX века физики и математики сделали свой выбор в пользу концепции дискретного мира: появилась квантовая механика и так называемая дискретная математика.
Говорят, что важнейшее различие между наукой и технологией состоит в том, что первая меняет наше видение мира, вторая — наш образ жизни в этом мире. Можно утверждать, что изобретение механических часов стало одним из ключевых моментов в истории человечества и оказало наибольшее влияние на жизнь людей. Кроме того, благодаря часам, в создании которых математика сыграла определяющую роль, время перестало быть непрерывным и превратилось в дискретный ряд интервалов.
Первые механические часы появились в XIV веке (в Китае — в X веке), и сегодня они считаются устаревшими. Стрелки этих часов приводились в движение противовесом, который опускался под действием силы тяжести. Противовес подвешивался на веревке, намотанной на цилиндр, при движении противовеса цилиндр вращался и приводил в действие часовой механизм. У первых часов не было ни циферблата, ни стрелок, и время отмерялось ударами колокола. Мы говорим, разумеется, о больших городских часах. Во многих языках слово «часы» также означает «колокол», как, например, английское clock или французское cloche. В колокола бил звонарь, который следил за ходом времени.
Само собой разумеется, что точность этих часов оставляла желать лучшего, но не из-за несовершенства часовых механизмов, а из-за действия законов элементарной физики. Противовес, который приводил в движение механизм, опускался неравномерно: под воздействием силы тяжести его скорость постепенно возрастала. Эту проблему удалось решить с помощью остроумного изобретения — часового спуска.