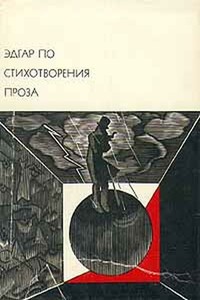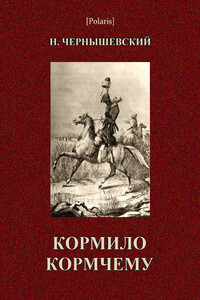Что делать? | страница 12
Образ Рахметова, как бы недорисованный («легкий абрис», — говорит о нем сам автор) и все же художественно завершенный, таинственный и вместе с тем предельно четкий, «бездейственный» в сюжете и одновременно главный в романе, — этот образ во всей своей необычности представляет яркий пример удивительной творческой свободы художника. Да и весь роман в целом, с его «странным» сюжетом, необычными героями и раскованной композицией есть свидетельство творческой свободы писателя. Другое дело, что свобода — не беззаконие. Нет необходимости доказывать, что Чернышевский следовал законам реализма, — принципы реалистической эстетики, сформулированные им самим в знаменитой диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», вошли, можно сказать, в плоть и кровь художника. Основным критерием художественности произведения Чернышевский считал жизненную правдивость, и этому критерию его роман соответствует вполне. «Все достоинства повести даны ей только ее истинностью», — обоснованно заявляет он в предисловии. Причем дело не в скрупулезном воспроизведении всех решительно черт и черточек, а в отражении наиболее существенных, характерных, типических, интересных явлений действительности, и это также соответствует важнейшему эстетическому положению Чернышевского: «Общеинтересное в жизни — вот содержание искусства»[5].
Именно в силу этого «общеинтересного» содержания роман и вызвал огромный общественный резонанс в 60-е годы. Для многих поколений русских революционеров роман был тем «учебником жизни», каким, по заявлению Чернышевского в его диссертации, должно быть всякое произведение искусства. От писателя, от его «учебника жизни» Чернышевский требовал объяснения изображаемых жизненных фактов, и это правило он выполняет в своем романе, прибегая к самым разнообразным приемам.
«Истинность», о которой говорит автор романа в предисловии, — не простое правдоподобие. Особенность романа заключается в том, что «новые люди», составляющие в реальной действительности еще меньшинство, представлены Чернышевским как явление типическое, определяющее тенденцию развития. Положительные идеалы, положительные герои, конечно, не выдуманы писателем. Они выражают «прекрасные» начала реальной действительности. Появление нового — это и есть процесс движения, это и есть самое «интересное» в общественном развитии, это и есть прекрасное в жизни. Новое может стать предметом художественного воплощения, предметом типизации и в том случае, когда оно еще не стало господствующим, основным началом, когда оно еще исключительно. Так в образе Рахметова была убедительно осуществлена типизация исключительного.