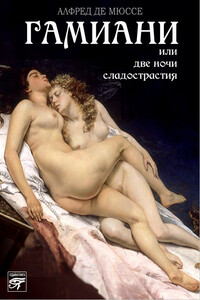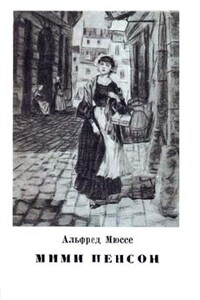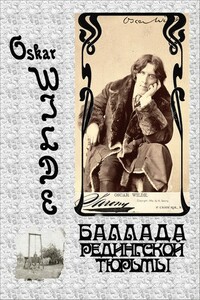Поэты «Искры». Том 1 | страница 7
Искровцы знали подлинную цену реформ 1860-х годов. Признавая их относительно прогрессивную роль, они вместе с тем видели, что эти реформы неспособны устранить основные противоречия русской жизни.
Искровцы ненавидели фразу, словесную мишуру:
(«Мишура» Вейнберга)
В стихотворении «Раздумье» В. Курочкин говорит о «злобе святой, возвышающей нас», которая «смело Прямо из сердца бросается в дело». Речь идет, конечно, о злобе против социального угнетения и социальной несправедливости[17]. «Святая злоба» и развенчание фразы лежат в основе всего творчества поэтов «Искры».
Они высмеивали и лицемерное, чисто словесное сочувствие «мужичкам» со стороны усвоившего либеральную фразеологию общества («Семейная встреча 1862 года» В. Курочкина), и крепостников, очень скоро после 1861 года снова поднявших голову («Мирмидоны — Куролесовы» В. Курочкина, «Свой идеал» и «Мы — особь статья!» Богданова, «В ресторане» Н. Курочкина). От имени одного из таких приверженцев освященных веками порядков Буренин в поэме «Прерванные главы» пишет:
Развенчивая идиллические представления о примирении классовых интересов, о народе, который «в любви и примерном согласьи живет Под эгидою мудрых законов» («Благонамеренная поэма» Буренина), искровцы рисовали подлинную картину русской действительности, в центре которой — задавленный крепостной неволей, а затем попавший в пореформенную кабалу крестьянин. Наиболее ярко показано тяжелое положение русского крестьянства в сатире В. Курочкина на царскую Россию «Принц Лутоня» (переделанная применительно к русской жизни пьеса М. Монье), обличительная сила которой была так велика, что она и в предреволюционные годы вызывала еще цензурные преследования.
Уже самое заглавие заключает в себе характеристику основного персонажа. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля читаем: