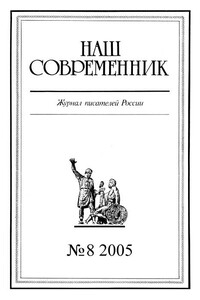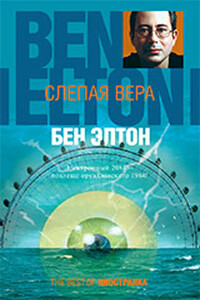Наш Современник, 2002 № 03 | страница 41
Машинский с одинаковым нахрапом и скрытой трусоватостью обвинял меня в антипартийности, в игнорировании ленинского учения о двух культурах в каждой национальной культуре, во вредном влиянии на студентов и т. д. Но все как-то не достигало цели, не получало должного отклика в зале из-за слишком уж очевидного плутовства обвинителя, а я, как обычно, не считал нужным отвечать, что давало ему повод и здесь обвинять меня в отмалчивании. Только Кирпотин, приложив ладонь к уху, в загадочной неподвижности своей преданно внимал своему младшему собрату.
Не все присутствовавшие на партсобрании прочитали вышедшую в тот же день статью А. Яковлева «Против антиисторизма», и реакция на нее пока была частичной. Обсуждение ее с должными выводами еще предстояло. Никаких особых перемен я не чувствовал в себе, разве лишь какие-то неясные опасения закрадывались в душу, но имя мое уже отделилось от меня и пошло «гулять по свету». По всей огромной стране по сигналу из Москвы статья А. Яковлева воспринималась как директивная, как идеологический документ ЦК партии, не подлежащий сомнению ни на йоту.
В обкомах партии, в идеологических, культурных учреждениях, в институтах, в редакциях газет, журналов, в издательствах, даже в политотделах армии — везде проходили собрания, совещания, на которых витала тень знаменосца марксизма-ленинизма, «развитого социализма» А. Яковлева. Был наложен запрет на историко-патриотическую тематику. Были отменены туристические поездки по «Золотому кольцу» — ибо памятники прошлого объявлялись реакционной патриархальщиной, стоящей на пути коммунистического строительства. Но все это давало обратный эффект. Я получил множество писем, авторы которых прекрасно понимали антирусскую суть выступления Яковлева. Позвонил мне Леонид Максимович Леонов, о статье он не сказал ни слова, но я понял, что он хотел поддержать меня. Сочувствовали мне при встречах писатели, знакомые.
И вот 21 декабря 1972 года на партгруппе кафедры творчества Литинститута состоялось обсуждение статьи А. Яковлева «Против антиисторизма». Парторгом тогда на нашей кафедре был Алексей Васильевич Прямков. В 30-е годы он редактировал в Москве железнодорожную газету, хорошо знал Лазаря Моисеевича Kагановича, о котором с добродушным видом говорил как о большом мастере по сокрушению хребтов негодных и неугодных работников. Массивный, медлительный в речи и в движениях, с чувством простонародного юмора, он выглядел эдаким эпическим русским мужиком среди собиравшихся на кафедре творчества таких же, как он, руководителей семинаров, только пожиже, чем он, и фигурой, и характером. И хотя я никогда не слышал, чтобы Алексей Васильевич говорил что-либо о Сталине, в Литинституте считали его сталинистом, может быть, потому, что он никогда не вспоминал 37-й год, в отличие от таких, как Машинский, на которых эта цифра действовала подобно красной тряпке на быка. Конечно, это была случайность, но для меня чем-то характерная, что мое дело на партгруппе совпало с днем рождения Сталина — 21 декабря.