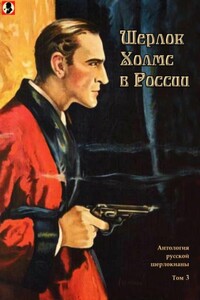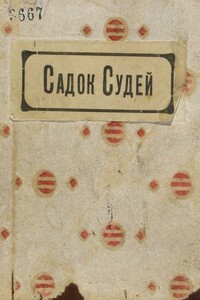Поэты 1880–1890-х годов | страница 22
(«Всё движется стройно: плывут облака…»1889)
Между тем, по мысли Льдова, тревога человека и человечества напрасна; ни страдания, ни зло, ни грехи этого мира не должны никого смущать, как не смущают они автора, окончательно постигшего смысл мировой жизни: «чистое сознанье Влечет мою мечту к престолу божества… И мнится, самый грех и самое страданье — Всего лишь грани вещества». Так в сознании поэта противоречивые явления нашего мира, «как грани без числа, В смешении добра и трепетного зла Сливаются в одно прозрачное сиянье» («Я не могу смотреть с улыбкою презренья…»).
Стихи Льдова пестрят словами: «божество», «святая истина», «невоплощенная красота», «алтарь», «непостижимое», — и в них растворяется для него весь внешний и внутренний мир. Даже в глазах своей возлюбленной экзальтированный поэт видит все те же вечные категории: «В заботах дни мои влача, Забыв для временного вечность, Я в них увидел два луча, Блеснувших в бесконечность» («Как я люблю в твоих глазах…»). Природа у Льдова иной раз антропоморфизируется, но он стремится в ней увидеть не человека вообще, а некоего мистика, погруженного в «напевы божества», в благоговейные молитвы, в мечты о мировой любви («Покорствуют сердца закону тяготенья…», 1888) и о «вековечном свете» («Отшельник», 1889).
(«Не знаю почему, — недвижная природа…», 1888)
Такая поэзия, совпадавшая для Льдова с восторженным и, как он писал в цитированном выше предисловии, «если осмелюсь так выразиться, молитвенным настроением», и должна была, по его мысли, заменить утилитарную гражданскую поэзию, представители которой глядели на мир «исключительно телесными глазами, ища в картине содержания не таинственного, а наиболее понятного, наиболее близкого к заурядной действительности…». По поводу этих претензий Льдова П. Ф. Якубович заметил в рецензии на его сборник 1897 года «Лирические стихотворения»: «Льдов осмеливается утверждать, что прошли те времена, когда русское общество могла увлекать и трогать „муза мести и печали“, эта „бледная, в крови, кнутом иссеченная муза“, и что настал праздник для яснолобых эстетов и декадентов. К счастью, этот праздник ему приснился, и русское общество не дожило до такого позора»