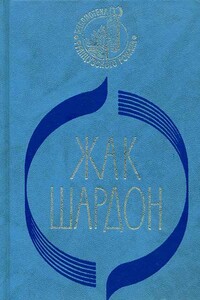Силоам | страница 121
Но в этом непостижимом волнении, заставлявшем Симона в первые послеполуденные часы ждать прохода Ариадны по дороге, как появления первой женщины, как если бы она заключала в себе мир, о котором никакой опыт его жизни не мог дать ему ни малейшего представления, растворялись другие переживания, как волна в волне. Возникал неизбежный вопрос, который он силился отстранить от нее, как опасность, может быть, даже как оскорбление. Что происходило с Ариадной, когда она каждый день исчезала за горизонтом?.. Что происходило с ней, когда она лишалась преимущества жить лишь сияющей кудрявой шевелюрой, возложенной на ее чело, как солнце? Что происходило с ней, когда она вновь становилась самой собой, вынужденной жить всей душой, всем телом?.. Но он отталкивал эти вопросы, считая их детскими: это любопытство казалось ему лишенным благородства; даже смысла! Разве такая женщина могла встретиться иначе, чем при исключительных обстоятельствах, как она являлась ему всегда, — в возвеличенном виде, внушающем любовь? Можно ли было даже желать этого?.. Во что превратилась бы Ариадна, увиденная вблизи, на дороге, с озаренным солнцем лицом, под лучом вопроса, вынужденная отвечать, явить себя иначе, нежели чем через позу, движения и молчание? Во что превратилась бы она, оторванная от неподвижного полумрака часовни, от своей немой беседы с тем растением, от ровной и безразличной поступи по обжигающей дороге, к которой боязливо жались животами ящерицы, — по дороге, уносившей ее сразу же, как она появлялась? Позволительно ли было об этом задумываться? Прилично ли было требовать от нее падения в обыденность, ненужного компрометирования себя сделкой с жизнью?.. Нет, это требование было бы наименее уместным. Симон любил ее за то, что она была вне возможных встреч, дорог, на которых можно столкнуться, слов, которыми можно обменяться. Он чувствовал облегчение, думая, что ему никогда не доведется взять ее за руку, спросить: «Как поживаете?» Он радовался тому, что образ их жизни и самый ее распорядок делали невозможным задавать друг другу подобные вопросы.
Теперь, когда Симон мог выходить, когда он уже не был заключен в Доме, а был избавлен от него, почти того не заметив, он с удивлением принял это счастье, которого ему даже некогда было пожелать, как в снах, когда мы вдруг оказываемся рядом с женщиной, о которой даже не помышляли, и внезапно ощущаем своими губами прикосновение ее губ.
В его жизни это был настоящий переворот. Прогулки длились недолго, но еще никогда несколько минут не бывали такими густо-сочными. Симон удивлялся, что мог когда-то так страстно стремиться к людям: в полдень, один посреди луга, он больше ни в чем не нуждался. Ему было достаточно земли. Земля была вокруг него, облаченная в травы, листву, камни. Ее присутствие заполняло все. Она подходила к нему, словно касалась его рукой. Иногда она делалась ласковой. На огромных просторах, под последними струями тепла, распускались то тут, то там, у самой земли, сиреневые островки из тоненьких чашечек безвременника, в то время как по стене леса, вдоль холмов, пробегали первые язычки осеннего пожара. Симон не спешил домой; он вовсе не торопился вернуться в общую жизнь; луг был квинтэссенцией всего сущего и наполнял его собою. Между сворачивавшей тропинкой, кустом, закрывавшим от него корпуса, и потоком, рокотавшим вдали, Симон испытывал полное счастье. Но нужно будет долго учиться узнавать тот же самый луг, его однообразную поверхность, которая будто бы лишь повторяла сама себя — для этого потребуются многие дни, и эти долгие неумолимые встречи наедине, и это жгущее плечи солнце, и это страстное желание любить, которое умеет, если надо, обходиться без чувств… Да! Надо будет уметь долго оставаться с ним наедине, расспрашивать перекаты его трав, пытаясь понять, что он делает по ночам, расправив члены, растянувшись под луной.